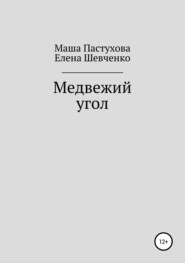По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
ГрошЕвые родственники
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты же узнал меня, – пожал он плечами, – Викентий Иосифович Гроше, помещик Лидского уезда, полтораста десятин, 32 души обоего пола, межевой судья уезда.
– Брат Пиотра?
– Это мой старший брат, но ибо он бездетен, то имение Рыловцы досталось мне, я уже был обременен потомством. И я поднял это владение, прикупил немного землицы, завел разумное земледелие. Через три года я снимал 200 пудов с десятины – рожь, ячмень, фуражное зерно, у нас не пшеничный край. Но прекрасно росла репа и картофель, этим я кормил свиней. Я первым стал делать у нас в уезде колбасы, которые отлично хранились полгода. А какие у меня были свиньи, – он явно увлекся.
– Нет там ничего, – оборвал я его, – ничего. Дом с землей сравняли, кладбище растащили, поля посеяны, но сомневаюсь я про эти 200 пудов. Хочешь, обратно верну тебя, пока недалеко отъехали, сам глянешь, на свободную страну.
– Литовско-Польскую?
– Бери выше. Литвины свободны от поляков, поляки от России, а вот белорусы и вовсе сами по себе.
– Кто это?
– Ну это я тебе так сразу и не объясню. Белорусы. И вообще, я не геополитик, это тебе с Пиотром лучше потолковать, он в этом дока. Мне в Москву надо. Срочно. К доктору, эскулапу, задолбали вы меня своими явлениями, не хочу вас видеть и думать над вашими идеями не хочу. Где тебя высадить?
– По дороге на Ошмяны, оттуда до Вильно рукой подать, – важно сказал этот мироед, межевой судья, мастер кадастров.
Он покинул меня на развилке, покачав головой, без прощания, а мне еще многое хотелось ему сказать вдогонку, рассказать про потомков. И про его хозяйство. Тридцать два крестьянина у него! А он знает, что такое строительная фирма, где четыреста рабочих, сто человек офиса, одних пэтэошников десять человек, налоговая, стройнадзор, сдача-приемка электрики и автоматики нефтеперекачивающих станций, каково мне, он знает?! Свинки у него, видишь ли. Да я бы, дай Бог, если свинки кормят, каждую бы утром в морду целовал, все лучше, чем на планерку к заказчику ехать.
Я мог многое ему напомнить. Например, как он хитро вдруг в армию подался, аккурат после разгрома польских патриотов, с которыми до того мутил Пиотр. В Польской армии места по арестам освободились, вот он быстро и дослужился до полковника. А на пенсион можно было и свинок разводить. Прекрасное занятие в отставке, на свежем воздухе, в окружении семьи. Хитер, злился я на него, забыв свое обещание принять их любыми и не судить, а этот и вовсе был мне праотец по прямой.
Но он ушел, а я рванул дальше, пока меня не остановили белорусские менты, штрафанули за превышение скорости. Спорить не стал, я же правда шел на сто шестьдесят, разошлись, как люди, за тридцать евро и без квитанции. Путешествие в прошлое было закончено.
Осталось только саблю Сашке подарить, может, она ему понравится, если ее почистить. А ей, я не хотел называть ее по имени, этот погребец. Домой я не мог это привезти, да и не хотел. Пришлось бы объяснять, как я прибавил целый день к командировке, кто эти Чукины. Зачем мне все это, слушать крик и всхлипы, а потом узнать, что эти вещи засунули в кладовку или на чердак или вовсе выбросили на помойку. И мне они были не нужны.
Я дал себе слово, что никогда больше не буду ввязываться в эту историю с большой буквы, слишком опасное это путешествие, прав Пиотр. Я только картинку про имение себе оставил, спрятал в папку для бумаг, сам не знаю, почему. Это был дом моей мечты, где я бы оборудовал в мезонине кабинет, развесил все эти фотографии по стенам, поставил в шкаф свои учебники по механике, на видном месте повесил бы диплом об окончании вуза и свидетельство о моей давно забытой кандидатской. И сидел бы там, спускаясь только к обеду, а потом опять поднимался наверх. Созванивался с родственниками и друзьями, в эти мои и только мои часы пусть все идут к черту, читал почту, газеты, я забыл, когда в последний раз держал в руках газету. Потом бы ехал к соседу поговорить про свинок и посевы, а потом – вечерний чай на липовом цвету. А жена бы музицировала и не верещала, что надо срочно поменять мебель, купить подарки родственникам или обновить веранду. Я бы писал историю семьи.
Я чуть не въехал в медленно тащившейся трактор, очнулся и принял решение не ночевать в Вязьме или Смоленске, а рвать до Москвы, тем более, у меня было важное дело. Но прежде всего, я съехал с трассы, остановился на загаженной обочине и сжег все бумаги из синей папки.
Несмотря на позднее время, я очень удачно припарковался перед домом на Шереметьевской. Мне не хотелось больше злиться, метаться, заглядывать в себя и бездны небесные, или как там он говорил. Держа в руке саблю и погребец под мышкой, я вошел в подъезд. Вид у меня был диковатый, выходящая со шпицем дама шарахнулась, я улыбнулся ей, чем еще больше ее напугал. Мне было весело.
Я занервничал, когда нажал кнопку звонка, не знал, что я скажу, зачем я пришел.
Глава 18. Я вновь у Летиции и мне не хочется уходить
Не нужно было ни многословия, ни вдохновенного вранья, ни объяснений, ни каких-то историй, которые со мной случились или могли случиться, ни повода, ни причины, все оказалось просто до боли, до перехваченного дыхания, до слез, которые стояли в глазах, но пока еще не текли, но в любой момент могли прорваться. Я открывал рот, как рыба, выброшенная на берег, я глупо хлопал глазами, а она засмеялась:
– Есть хотите? – вот и все, что сказала Летиция.
Только сейчас я понял, как я голоден. Я не ел с утра, после раннего обеда у краеведов, я гнал машину, как сумасшедший. Я злился и даже не заметил, что наступил вечер. Я очень хотел есть, но не мог сказать ей ничего, только кивнул головой, а пройдя в квартиру, смутился, что опять буду у нее есть, опять ничего не принес.
– Простите, я с пустыми руками, – хрипло выдавил я. – Здравствуйте, Летиция.
– У вас же все руки заняты. Почему же с пустыми?
Она звонко засмеялся, и тут же за ее спиной появился Сашка в пижаме. А она все еще смеялась, убирая рукой челку со лба, Сашка тоже смеялся, и тут я понял, что держу под мышкой погребец, а в руке саблю, это было нелепо и смешно. И я тоже засмеялся, ко мне вернулся голос, слезы отступили, я их только сглотнул, они были солоноваты. Я протянул Сашке саблю:
– Гусаров Радецкого, только ее почистить нужно, но мы с тобой это сделаем. А это вам, – она взяла серебряный погребец, не ожидая, что он окажется таким тяжелым, чуть не уронила, поставила на пол.
– Что там? – спросил любопытный Сашка, уже пытаясь его открыть, но замок был хитрым.
А я и сам не знал, что там внутри, как-то не спросил у Чукина, не полюбопытствовал, не выяснил. Вместе мы справились с хитроумным механизмом, открывавшимся кнопкой и рычажком, и погребец распахнулся, отбросив створки в две стороны. Нам открылось содержимое: маленький самоварчик, серебряные стаканчики, жестянки под чай, вилки, ложки, кастрюлька с крышкой, сахарница, молочник, две тарелочки, какие-то загадочные вещицы, назначения которых я не знал, но наверное, они были необходимы в путешествии.
– Это походный погребец наших предков, – объяснил я.
– Вещь, – оценил Сашка, – только тяжело тащить.
– Вещь, – я попытался сдвинуть погребец, – ехала в карете.
– Тогда ладно.
Летиция молчала, ожидая моих объяснений, но я пока не знал, что говорить, потому брякнул глупость:
– А где руки помыть? И умыться бы с дороги.
Пока я умывался, она сварила макароны, слегка присыпав их сыром и украсив тонким ломтиком ветчины, это было очень вкусно. Я наслаждался каждой макарониной, а Сашка принялся чистить саблю салфеткой, но ржавчина не сходила.
– Лета, я хотел бы, с вашего позволения, – так церемонно я никогда не объяснялся, – временно оставить вещи у вас, а потом с оказией я их непременно заберу, если вас, конечно, это не обременит.
– Заберешь?! – Сашка сжал эфес.
Я пожалел, что сжег все бумаги. Но я знал, как и где их раздобыть снова, есть же архивы, где хранятся эти никому не нужные и необходимые документы на всех и каждого. Где все описано и учтено, каждый выданный из казны рубль и каждое новое звание, и дети, что уже крещены, и те, кто ушел, снявшись с довольствия. Я вспомнил, что еще есть один Гроше, в Хотьково, адрес его толком не знал, но точно помнил, что это улица Щорса. Найду, решил я, и пригласил Летицию с сыном на загородную прогулку в первые же выходные. Но она отказалась, так как у нее в этот день были ученики. Сашка смотрел на меня преданно, но она не отпустила его со мной. Верно, кто я им, странный брат, который всегда является вечером с какой-то чушью.
Глава 19, где я знакомлюсь с сильно пьющим братом художником и его несчастной дочерью
В Хотьково я все же отправился, в субботу, попав в пробку, созданную гражданами рвущимися на дачи. Впрочем, я никуда не спешил и спокойно пропускал их. Я не знал, как объяснить тем, к кому ехал, кто я и зачем явился, тем более, что я дал себе слово прекратить поиски и забыть тех, кто приходит ко мне в кошмарных снах и пьяном бреду. Последний раз и все, говорил я себе, еле продвигаясь по Ярославскому шоссе, поворачивать назад было поздно. Через два с половиной часа я въехал в дачный поселок с домиками постройки 30-х годов со штакетниками, крашеными в зеленый цвет, за которыми стеной стояли старая, уже выродившаяся сирень, корявые яблони и обязательный жасмин.
Нужный мне дом стоял на краю огромной лужи, которую невозможно было обойти ни с какой стороны, и я беспощадно промочил ноги. Хорошо, калитка оказалась открытой. На дорожке к дому валялся эмалированный таз, покрывшийся трещинами, будто он тут уже десятилетиями лежит, набирая дождь весной и листву осенью. На крыльцо вышел мужик с трубкой в руке и в красном шарфе, он живописно смотрелся.
– Брат, – начал я.
– Мы ничего не покупаем и свидетелей Иеговы не ждем, – равнодушно ответил он и повернулся ко мне спиной.
– Я брат твой, я Викентий Гроше, а ты Виктор Гроше, художник, и мой троюродный брат.
– Художник, – кивнул он головой, обернувшись, – а водка у тебя есть? Магазин там, на Чапаева.
Я побежал в сельпо, купил водки, хлеб, какие-то шпроты и круг краковской колбасы, которая пахла чесноком и копченой шкуркой, как в детстве. Я оторвал хвостик и стал жевать, а потом отщипнул кусочек горбушки влажного непропеченного ржаного хлеба, так вкусно мне не было давно.
С таким набором Виктор принял меня более радушно. На веранде, где протекал потолок и криво закрывались трухлявые рамы, он накрыл стол, поставив разнокалиберные рюмки, щербатую тарелку. На деревянной доске лежал укроп и зеленый лучок. В углу сидела девушка или женщина, я не понял, возраст было не определить по одутловатому лицу и приоткрытому рту, могло быть и тридцать, а могло и пятьдесят, не понять. Она даже не моргнула, когда я вошел.
– Дочь, племянница твоя, – он разлил водку по рюмкам. – За знакомство, брат. Значит, Викентий ты. А она Анечка, ты не смотри косо, она у меня молодец, в Абрамцевском музее билетики проверяет, зарплату получает. Меня-то из журнала давно поперли, за пьянку, и закон этот горбачевский уже забыли, да кому я в семьдесят нужен. А ты что хотел?
Я сбивчиво объяснял про наш род, про тех, кого я нашел, про триста лет истории. Анечка равнодушно ела бутерброд с колбасой, но вдруг она улыбнулась, встала, погладила меня по плечу:
– А если все соберутся, то у нас чашек не хватит, у нас их пять штук, – она открыла старый буфет, показала разнокалиберные чашки. – Только одна колотая, но она не треснула, почти целая. Тоже поставить можно. Чай будем пить.
Виктор поперхнулся, закашлялся, слезы выступили на глазах. Было видно, что кашлял он нарочно, чтобы слезы скрыть. Я старался не смотреть на него, замолчал.