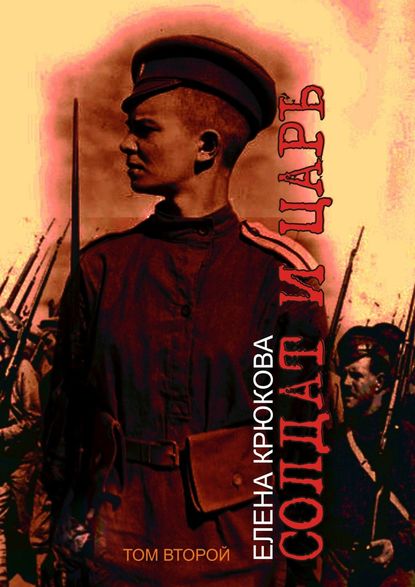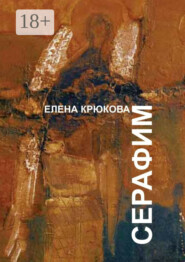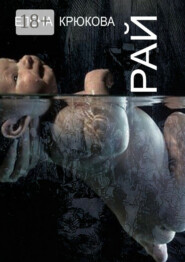По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Солдат и Царь. том второй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Морщины текли, как слезы.
– Нет, уедем, уедем! Мама, не надо!
Царь уже бежал с мензуркой, и капли пустырника в ней.
… – Леличка, а ты знаешь, в кладовой стопкой лежат иконы?
Ольга медленно оборачивалась к Анастасии.
– Анастази, ну и что из этого? Это чужие иконы.
– Но почему их сняли? Их надо повесить. Вернуть на места. Они же святые!
Ольга обхватывала себя за плечи, будто мерзла. В жару – обматывалась черной ажурной шалью. Под тощий зад, когда играла на рояле, подкладывала подушечку. На подушке вышит вензель: «ОР».
– Это не нашего ума дело.
– Ой, ну можно я хоть одну повешу?
– Когда ты успела их разглядеть?
– Я вместе… с Прасковьей…
– А, у нее ключ?
– Комендант ей дал. Чтобы Прасковья оттуда – еще один самовар взяла.
– Она брала самовар, а ты копалась в иконах?
– Я не копалась. Я – сверху увидала! Одну. Божию Матерь Утоли моя печали!
Вещи, вещи. Они мотались и качались маятниками. Они мерцали и гасли. Уходили в туман. Все вещи убьют и сожгут. Дом разломают и на кирпичи растащат. И потом из этих битых кирпичей где-нибудь, кому-нибудь сложат печь в бане.
Вещи человеческие, такие привычные. Стулья, подушки, кастрюли. Бумаги и книги. Подумай, Мария, этого всего через каких-то пятьдесят лет не будет. Залезь в будущее и погляди: что увидишь? Ничего. Ни печных этих изразцов, ни полосатых обоев, ни стула с обивкой в мелкий цветочек. Ни чернильницы на столе, ни ручки с вечным пером. Вечное? Какое вечное? Где здесь вечность?
– Машка, нас охраняют, будто мы вещи.
– Брось. Перекрестись и помолись. Это наваждение. Бесы.
– Мы вещи! Вещи!
– Настя, ну я тебя прошу.
– Проси не проси! Все равно вещи!
«Вещи, все равно», – Мариины губы без мысли, без чувства повторяли слова сестры. Повтор, музыкальная реприза. Еще раз. Как говорит мама по-немецки: noch einmal.
– Нох айнмаль!
– Машка, ты что?!
– Форвэртс!
– Ты что, на плацу в Гатчине?!
Мария по-военному повернулась, подняла ногу, не сгибая ее в колене, и стала маршировать по гостиной. На столе звякнула чернильница: Мария тяжело наступила на скошенную половицу.
– Машка! А когда мы уедем отсюда – инженеру вернут особняк?
Мария встала: ать, два.
– Нет. Народ тут сам поселится.
– Народ? Какой народ?
Волосы текли с затылка на плечи Марии густым тяжелым медом.
– Разный. Солдаты, торговки с рынка… может, рабочие. Здесь же много заводов и фабрик.
– Рабочие, – Анастасия накручивала прядь на палец. – Но ведь рабочие живут в своих домах! Им есть где жить!
– Они живут в бараках.
– Что такое барак?
– Это такой… большой сарай. Грязный. Там клопы и вши.
Анастасия сделала вид, что ее рвет.
– Фу. Откуда ты все это знаешь? Ты там была? В бараках?
– Да.
– Не ври!
– Я ездила с подарками в рабочие бараки, когда мы были в Костроме. Вместе с тетей Эллой.
– Это когда мы были в Костроме?
– В тринадцатом году. На празднество юбилея династии.
Анастасия смотрела прямо, жестко, и тяжело дышала, будто бежала. Приоткрыла рот.
– И как там? В этих бараках? Страшно?
– Страшно. Как там люди живут? Я не понимаю. Там такие большие комнаты, и в каждой комнате по многу человек. Иные спят на полу, и даже без матрацев, на тряпках. На своей одежде. Есть комнаты получше. Там женщины с детьми. Дети орут, запахи… – Мария повела плечом, склонила голову к плечу, смотрела косо и снизу, как птица. – Дети тощие. Страшно худые. Нам одного развернули, вынули из пеленок. Пеленки – ветошь. У нас такими тряпками на кухне столы вытирают. Матери плачут: нам детей нечем кормить, у нас молока нет, пришлите хоть молока, каши! Хлеба пришлите! Стася, я стояла и смотрела, и мне стало плохо. Просто плохо. Но я крепилась.
Сестра опустила глаза. Мяла в пальцах край фартука.