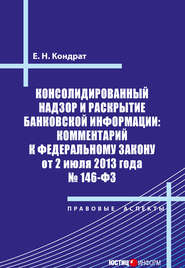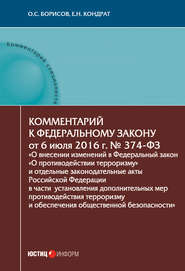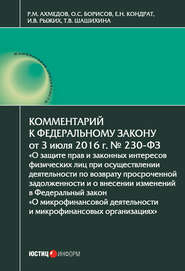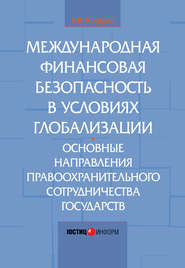По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия
Автор
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В настоящее время интерес российской науки к неформальной экономике значителен. Необходимо отметить исследование российского неформального сектора В. Гимпельсона и Е. Синдяшкиной. Неформальную занятость изучают И. Перова, О. Синявская, Л. Хахулина, а неформальные коррективы формального рынка труда – П. Кудюкин, А. Чепуренко и Т. Четвернина. Неправовым практикам в сфере занятости посвящают проект Т.И. Заславская и М.А. Шабанова. Неформальные каналы заполнения рабочих мест выявляет В. Якубович.
Но не только вопросы занятости привлекают исследователей. Теневая экономика предприятий представлена в схемах бартера А. Леденевой, в схемах неучтенного наличного оборота А. Яковлевым, в раскладах трансакционных издержек В.В. Радаевым, в моделях хозяйствования реального сектора Т.Г. Долгопятовой, в сетевых структурах современного российского бизнеса С. Авдашевой.
Процессы теневизации экономики ВПК и силовых ведомств изучаются Р.В. Рывкиной и Л.Я. Косалсом. Неформальный аспект трудовых отношений на постсоветских предприятиях выявляют С. Алашеев, В. Кабалина, С. Кларк, И. Козина, П. Романов и другие.
Развитие теневой и криминальной экономик в контексте процесса глобализации исследует С. Глинскина.
Роль неформальной экономической деятельности в повседневности петербуржцев раскрывается в исследованиях под руководством В.М. Воронкова, а неформальное хозяйствование российских крестьян изучают В. Виноградский, Е. Ковалев, А. Никулин, О. Фадеева, И. Штейнберг и другие. Сетевые обмены между домохозяйствами исследовали О. Лылова, А. Пиховский и В. Столбов. Исследования неформальной экономики с точки зрения гендерного распределения ролей представлены И. Тартаковской, З. Хоткиной, а домашней экономики – И.Е. Калабихиной, Е.Б. Мезенцевой и другими.
Особенно многочисленны исследования, фокусирующие внимание на неформальных взаимоотношениях с институтами власти. Формы теневого диалога с властью как населения, так и предпринимателей представлены в исследованиях А.А. Аузана, Л.Е. Бляхера, И. Клямкина, Л.Я. Косалса, Э. Панеях, В.В. Радаева, Р.В. Рывкиной, Г. Сатарова, Л. Тимофеева и других.
Криминальная экономика России также не осталась незамеченной. Это, прежде всего, работы Л. Тимофеева (наркобизнес), В. Радаева (контрафактная продукция), В. Волкова (организованная преступность).
Систематизация исследований отечественных и зарубежных ученых в области неформальной экономики представлена в работах Ю.В. Латова, В.В. Радаева.
Традицию статистического учета неформальной экономики продолжают Н. Бокун, И. Кулибаба, П. Ореховский, А. Пономаренко и другие
.
В настоящее время единого общепринятого универсального понятия теневой экономики не сформулировано. Многообразие позиций обусловлено, как правило, различиями в характере решаемых авторами теоретических и прикладных задач, а также в методологии и методике исследования.
В зависимости от характера результата деятельности выделяют теневую экономику:
• производительную, вносящую реальный вклад в производство валового национального продукта;
• перераспределительную, не связанную с реальным созданием экономических благ, но перераспределяющую доходы и имущество
.
По отношению к официальной экономике следует различать внутреннюю и так называемую параллельную экономику.
Под внутренней экономикой понимаются встроенные в официальную экономику теневые отношения, связанные с официальным статусом их участников. Другими словами, теневая экономика трактуется с этой точки зрения как нерегистрируемая деятельность тех же самых агентов, которые действуют и в регистрируемой части экономики. Данный подход последовательно реализуется многими экономистами
.
Параллельная (вторгающаяся) экономика – теневые отношения, не связанные с официальным экономическим статусом их участников. Данной позиции при характеристике теневой экономики придерживается В. Гинзбург (V. Ginsburgh), который рассматривает ее как особый сектор с особой производственной функцией, где занята без официальной регистрации часть рабочей силы
.
В зависимости от стадий воспроизводственного цикла различают:
• теневое производство;
• теневое распределение (скрытое от учета распределение доходов, экономические преступления);
• теневой обмен (реализация нелегально произведенной продукции, правонарушения в сфере потребительского рынка, реализация незаконно полученных ценностей);
• теневое потребление (потребление продукции собственного производства, удовлетворение деструктивных, асоциальных потребностей)
.
Большинство авторов включают в состав теневой экономики деятельность на всех стадиях воспроизводственного цикла.
Исключение составляет статистическая концепция, рассматривающая теневую экономику как производительный сектор, участвующий в создании ВВП.
Подходы к определению теневой экономики различаются также и в зависимости от принимаемых во внимание механизмов координации ее отдельных сфер и секторов. В связи с этим выделяют
:
• теневой рынок;
• неформальную экономику;
• властно-насильственный механизм, связанный преимущественно с применением или угрозой применения насилия.
Экономико-правовой анализ, проведенный К.В. Котовым, позволил ему рассматривать в качестве наиболее криминогенных зон следующие сегменты экономики:
• денежное обращение, криминализация которого является наиболее опасной для общества и которое порождает криминализацию всех остальных звеньев экономической системы. Многие эксперты считают, что в 1990-е гг. можно было говорить о переходе контроля над сферой денежного обращения к криминальным структурам;
• отношения собственности, прежде всего в торговле и общественном питании, сфере городской недвижимости, топливно-сырьевом комплексе, деревообработке и производстве строительных материалов, строительстве, производстве алкогольной продукции, земельных отношениях, эксплуатации государственной собственности;
• внешнеэкономическая деятельность, используемая не только для быстрого криминального накопления капитала, но и являющаяся самым эффективным средством незаконного экспорта капитала. В 1990-е гг. процветала криминальная система экспорта энергетических и сырьевых ресурсов, особенно стратегического характера, что подрывало позиции страны на мировых рынках и давало основания для принятия против России антидемпинговых мер;
• потребительский рынок, традиционно являющийся криминогенной экономической зоной. В 1990-е гг. практически полностью контролировался криминальными структурами, жестко регламентирующими цены и взимающими «налоги» на доходы как в виде доли от участия в капитале, так и в виде прямых платежей за право осуществлять торговую деятельность
.
Обобщая современные научные представления зарубежных исследователей о неформальной экономике, Ю.В. Латов формулирует следующие выводы
.
Неформальная экономика (как и теневая экономика в целом) является глобально-историческим феноменом, присущим в той или иной мере всем общественным системам. Она находила и находит свое место и в «первом мире» (в развитых «капиталистических» странах), и во «втором мире» (в «коммунистических» странах), и в «третьем мире» (в развивающихся странах). Более того, история неформальной экономики отнюдь не ограничивается современной эпохой: неформальные экономические структуры существовали в доиндустриальных обществах (вспомним хотя бы о внецеховом ремесле в западноевропейском средневековье), возможно, они будут существовать и в обществе постиндустриальном.
Неформальная экономика многофункциональна. С одной стороны, она играет роль своеобразной «свалки» отживающих институтов, обеспечивая временное выживание городских и сельских маргиналов, консервируя рудиментарные формы производственных отношений (например, семейные неформальные «микрофирмы» основаны во многом на архаичных отношениях личной зависимости). С другой стороны, неформальную экономику можно рассматривать и как «дубликат» господствующих в данный период институтов: неформалы производят обычные товары и услуги, потребляемые субъектами официальной экономики, причем заказы для неформальная экономики часто исходят от «формального» бизнеса. Наконец, неформальная экономика есть «полигон» новых институтов: являясь совокупностью мелких и мельчайших предпринимательских единиц, с легкостью изменяющих ассортимент, технологию, внешние и внутренние хозяйственные связи, неформальная экономика демонстрирует высочайшую гибкость и выживаемость. Согласно концепции Э. де Сото, саму промышленную революцию XVIII в., положившую начало современной капиталистической индустрии, можно рассматривать как результат борьбы капиталистов-«неформалов» с меркантилистским государственным регулированием, тщетно пытавшимся законсервировать цеховую систему и исключительные привилегии торговых и иных монополий. Именно «тихая революция» неформальных производителей создает конкурентную рыночную среду в современных странах «третьего мира». Наконец, предпринимательство в России и других странах бывшего «социалистического лагеря» развивается именно на почве традиций ранее запрещенного теневого бизнеса.
Неформальная экономика по своей природе имеет рыночный и конкурентный характер: мелкие производители, скрывающиеся от надзора контролирующих организаций, могут ориентироваться только на платежеспособный спрос таких же обособленных друг от друга покупателей. Неформальное производство использует в основном не капитальные, а трудовые ресурсы (иначе говоря, человеческий капитал в НЭ более важен, чем капитал физический). Производимая неформалами продукция имеет примерно тот же (или несколько более низкий) уровень качества, что и продукция легальных предпринимателей, но производится с более низкими издержками (неформальные бизнесмены экономят на издержках подчинения закону – не платят налогов и социальных платежей, могут давать зарплату ниже законодательно установленного минимума и т. д.). Уровень доходов в неформальном секторе в целом несколько ниже, чем в формальном, или примерно равен ему, однако дифференциация доходов гораздо выше.
Неформальная экономика является тем сектором теневой экономики, который наиболее производителен и полезен для общества. В условиях командной экономики социальная роль производителей-неформалов достаточно двусмысленна. События гражданской войны в России показали, что «мешочники» не только снабжали города хлебом, но и составляли основу «зеленого» движения, толкавшего страну в пучину анархии. На закате советской эпохи «цеховики» также, с одной стороны, удовлетворяли потребительский голод на дефицитные промтовары, но, с другой стороны, подрывали своей коррупционистской деятельностью остатки авторитета отечественного партийно-государственного аппарата. В рыночном хозяйстве рядовые потребители и даже легальные фирмы с удовольствием приобретают дешевые товары и услуги, не обращая внимания на правовой статус их производителей и продавцов; правительства склонны при этом мириться с потерей части своих потенциальных доходов, если это стимулирует экономический рост. Соответственно, если при централизованно управляемых системах правительство придерживается в отношении неформальной экономики стратегии решительного подавления, стремясь ликвидировать неформалов «как класс» (естественно, дурные законы умеряются не менее дурным их выполнением), то при децентрализованных системах оно де-факто молчаливо игнорирует неформалов или старается включить их в систему легального бизнеса, «формализовать», но не уничтожить. Неформальная экономика гораздо менее опасна для общества, чем другие формы теневой экономической деятельности типа «беловоротничковой» и организованной преступности, и потому она должна рассматриваться не столько как враг, сколько как потенциальный помощник легальной экономики
.
Официальное определение неформальной экономики разработано 15-й Международной конференцией статистиков труда (МКСТ), которая в январе 1993 г. приняла Резолюцию относительно статистики занятости в неформальном секторе. В марте того же года Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций (ООН), поддерживая указанную Резолюцию, приняла решение о включении соответствующих ее частей в Систему национальных счетов.
В Резолюции 15-й Международной конференции статистиков труда 1993 г. неформальный сектор определен как совокупность единиц, занятых производством товаров и услуг с целью обеспечения работой и доходами участвовавших в них лиц и обладающих характерными чертами предприятий домашних хозяйств. Согласно Резолюции 15-й МКСТ предприятия этого типа должны удовлетворять одному или двум критериям:
• небольшой размер предприятия с точки зрения занятости;
• отсутствие регистрации предприятия (определенное таким же образом, что и для предприятий неформального сектора без наемных работников) или его работников