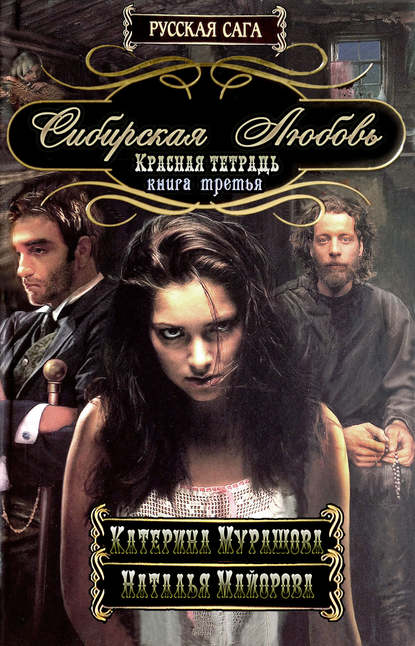По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Красная тетрадь
Серия
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Поеду, Марфуша, – неожиданно ответил Тихон. – Брата нет, теперь тебе и я нужен буду…
Только непомерная гордыня, смолоду и на всю жизнь присущая Марфе Парфеновне, удержала ее от слез. Шагнув к старичку, она подняла его высохшую руку и поцеловала в ладонь.
Поселившись в усадьбе Гордеевых, Тихон ни дня не бездельничал. Положил тощую котомку на лавку и сразу попросился работать по дереву. Мефодий, старший над слугами, но плотник по изначальному обеспечению судьбы, быстро снабдил старичка потребным материалом и инструментом. Теперь Тихон все светлое время сидел у окошка и, мурлыкая себе под нос, резал и собирал замысловатые игрушки – мельнички, медведей с пилой, зверюшек и кукол с движущимися руками и ногами. Побывав с Мефодием на прииске, две недели кумекал и к удивлению всех собрал-таки действующую модель золотопромывальной машины-бочки с водяным приводом, в которую можно было даже засыпать песок. Игрушки свои Тихон охотно дарил всем желающим (от желающих, понятно, не было отбою, но, согласно Марфиному распоряжению, преимущественным правом пользовались внуки Гордеева и дети Веры Михайловой). Сама Марфа обычно приходила в Тишину сторожку к вечеру, когда темнело, и он уже не мог работать (свечей и лампу Тихон не зажигал, привычно считая непомерным расходом). Рассказывала обо всем, что случилось за эти долгие годы с ней и вокруг нее, силилась понять, объяснить не то Тише, а скорее – себе. Тихон слушал смирно, сложив на коленях натруженные руки, наслаждаясь, пил чай с сахаром и баранками и – впервые в жизни – кофей. Спрашивал редко. Понимал ли четверть – Бог весть. Но Марфе и того было довольно – впервые в жизни она говорила о себе. Впервые в жизни (после той, далекой и призрачной, молодой поры) у нее был слушатель, которому она могла поведать обо всех своих победах и поражениях, сомнениях и страхах. Тихон действительно был нужен ей. Теперь это отчетливо понимал не только он сам, но и Марфа. Синими сибирскими вечерами два очень старых человека совместно творили что-то такое, что, приглядись кто повнимательнее, вполне мог бы назвать счастьем. Но приглядываться было некому. У всех вокруг кипели свои, очень важные, нужные и непременно спешные дела.
Глава 4
В которой Надя Коронина и Андрей Измайлов весьма близко узнают друг друга, а читатель знакомится с историей, которая случилась в Егорьевске несколько лет назад
Неожиданно в середине дня ей вдруг захотелось, чтоб он увидел ее обнаженной. Только что прошел дождь, снова выглянуло солнце и опавшие листья блестели от воды. Желтые свечки лиственниц отливали золотом, темные, почти черные ели горели угрюмым сланцевым блеском.
Надя развела в очаге большой огонь, половчее развесила связки корешков и пучки трав. Снарядила котел с водой, чтоб после сделать ему перевязку.
– Жарко, – пожаловался Измайлов.
– Сейчас дверь открою, – сказала Надя. – А вы – в окно смотрите.
Прямо на улице сбросила одежду, чувяки, белье, подняла руки и босиком закружилась по мокрым скользким листьям. Его взгляд плавил мутное стекло и это было приятно. Стыда не было совсем. Ей казалось, что она, наконец, достала платье от хорошего портного, которое много лет висело в гардеробе и не использовалось по назначению. С веток летели ледяные капли и охлаждали разгоряченную кожу.
С охапкой одежды вошла обратно в зимовье. Нагретые щербатые доски пола приятно массировали ступни. Измайлов смотрел с лежанки серьезными, темными глазами. Она поняла, что с ним никогда не будет легко. Вздохнула с сожалением и приняла, как есть.
– Ваш муж?… – спросил он.
– Мой муж, Ипполит Михайлович Петропавловский-Коронин, – бывший член Народной Воли, – покорно объяснила Надя, оставив одежду на полу и завернувшись в какую-то пыльную попонку. – Ссыльный. Ученый, когда-то в Санкт-Петербургском университете изучал многощетинковых червей. Потом вступил в кружок, увлекся идеями, борьбой за народное дело… Вы, наверное, лучше меня знаете, как это бывает… – Измайлов кивнул, подтверждая: знаю, мол, как же не знать!
– Раньше он жил на поселении в Егорьевске, здесь мы и познакомились. У нас все образованные люди наперечет, а он и среди них выделялся. Крупнее его только Гордеев был, да, может, еще Матвей Александрович… Ипполит Михайлович много рассказывал мне, из естественных наук, о положении народа. Тут я, наверное, не меньше его знала, но он разъяснить умел, что да почему… В общем, когда ему позволили в Екатеринбург перебраться, я с ним поехала, поступила там на курсы… Мы стали вместе жить, а потом на Пасху поженились, три года уж прошло…
– Что ж Ипполит Михайлович и в Екатеринбурге какую-то работу ведет? – осведомился Измайлов. Лицо его показалось Наде холодным и отчужденным. Она заторопилась с ответом.
– Конечно! Конечно! Я не все знаю, да и конспирация у них, но… Там собрания регулярно бывают, журнал рукописный, читают статьи, которые товарищи из России присылают. В прошлом году организовали побег из Тобольского централа…
– Довольно! – Измайлов поднял руку, словно заслоняясь от Надиных слов. – Я понял. И что же вы… вы, Надя, конечно, целиком и полностью разделяете убеждения вашего мужа?
Надя нахмурила густые брови и провела рукой по лицу, словно снимая налипшую паутину. Видно было, что ответ не дается ей попросту.
– Отчего-то мне хочется ответить вам, не соврав, – медленно сказала она. – А это трудно. Я, вы уж поняли, давно медициной увлечена. С самого детства. В этом видела и вижу свое предназначение…
– А семья? Дети? – быстро переспросил Измайлов.
Он уже сталкивался с подобной позицией у женского пола, правда, она была никак не связана с медициной. Те женщины-товарищи, из его молодости, пугали его даже тогда, когда он сам был нешуточно увлечен романтикой борьбы. Горячась и дымя папиросами ему в лицо, молодые революционерки упрекали его в ригидности, консерватизме, непонимании момента и пристрастии к женскому неравноправию. Он соглашался скрепя сердце, но в глубине души все-таки считал, что изготовление бомб, теракты, тюрьмы и всякая другая подпольная, сопряженная с риском и опасностью деятельность – сугубо мужское дело.
– Детей у нас пока нет, – ответила Надя и опустила голову. – Может, я бесплодна, может быть, Ипполит… А может, просто время не пришло…
– Простите меня, – он вдруг почувствовал себя жестоким и бестактным. Она спасла ему жизнь как раз благодаря своему давнему и серьезному пристрастию к медицине. Она стояла перед ним босиком, практически голая, завернувшись в какую-то нелепую накидку. Она молода и привлекательна. Ее муж, ссыльный Петропавловский-Коронин, наверняка – бирюк и зануда. А он устроил ей форменный допрос, как в крепости…
– И вы простите меня, Андрей Андреевич. Мне легко с вами говорить и вдруг пошалить захотелось, а это в моем и вашем положении… невместно…
– Отчего ж невместно пошалить? – он приказывал себе замолчать, но язык, все тело не подчинялось приказам. – Всегда серьезным не будешь. Только надобно нам с вами сейчас уточнить, чтобы после конфуза не случилось. Вы чего ж из шалости желаете: наставить теперь господину Коронину рога или просто… покрасоваться собой перед немощным инвалидом, как дамы перед зеркалом в драгоценностях вертятся?
Он так быстро, точно и окончательно понял ее, что Надя, наконец, смутилась и впервые увидела всю ситуацию как бы со стороны. Тихонечко взвизгнув, подхватила одежду и выбежала из зимовья, на пороге обронив попонку, в которую завернулась на время разговора.
Измайлов грустно улыбнулся и принялся ждать. Что ему еще оставалось? По правилам игры надо было бы теперь побежать за ней, догнать, облапить, целовать мокрое лицо и острые, торчащие груди, но – увы! – на это у него еще не было сил.
Надя вернулась к вечеру. Полностью одетая, серьезная, отчужденная.
– Надобно вас перевязать.
Измайлов поморщился, но кивнул согласно.
Во время перевязки она старалась поменьше прикасаться к нему. В ее движениях не было прежней ласки. Он это чувствовал и кусал губы от боли и досады.
Лежанка в зимовье была одна и довольно узкая. Он боялся, что она уйдет спать в угол, подстелив шкуры и одеяло. Но, молча поужинав, они легли, как и в прежние ночи – валетом, голова к ногам. Дождавшись, когда ее дыхание выровняется, Измайлов осторожно просунул руку под одеяло и погладил ее крутые икры и маленькие ступни. Надя замерла, ему показалось, что даже едва слышное дыхание исчезло. Он подождал еще. Она молчала, но не противилась ласке. Он ласкал ее долго и нежно. Один раз она тихонько застонала сквозь зубы и в ее стоне ему послышалось удивление. Он мысленно, но довольно крепко высказался в адрес народовольца Коронина. В конце концов, она подобрала ноги и села на лежанке. Он видел ее черный, сгорбленный силуэт.
– Вы на меня не сердитесь, Андрей Андреевич? Не презираете меня?
– Нет, конечно, маленькая, как ты подумать могла?! – прошептал Измайлов. – Ты такая красивая была там, на полянке, дикая, на коже – золотые отблески. Я даже на секунду подумал, что это ты так шаманишь, чтобы меня побыстрее вылечить.
– Правда?
– Истинная правда. На такую красоту только взглянуть – лучше всякого лекарства.
Она всхлипнула, быстро и ловко перевернулась и юркнула в его объятия. Он прижал ее к себе и крепко поцеловал в холодные, соленые губы. Она неумело ответила на поцелуй, а спустя несколько минут уже спала, расслабившись и тесно прижавшись к нему. Измайлов смотрел в окно и механически гладил ее жесткие короткие волосы.
Наутро они проснулись так, как будто знали друг друга всю жизнь. Готовя завтрак и утреннее питье для больного, Надя фальшиво напевала и пританцовывала. То, что ее репертуар наполовину состоял из колодных и острожных песен, смешило Измайлова чрезвычайно.
Во время еды и собираясь в лес за очередной порцией корешков она все время старалась как бы ненароком коснуться его – плечом, рукой, щекой. Он ловил ее за руку и целовал и брал в рот по очереди грубые маленькие пальчики.
– Не тронь, грязные! – с испугом говорила она.
Она умывалась, но под ногтями у нее была въевшаяся грязь все от тех же корешков.
Стремление уяснить все до конца всегда мешало ему жить, и портило даже самые лучшие моменты. Его вопрос остановил ее на пороге.
– Ты ведь никогда не оставишь своего Коронина, так?
Она обернулась и опустила мешок. Маленькая лопатка тихонько звякнула внутри. Лицо ее казалось разом потухшим, и ему захотелось сползти с лежанки, опуститься на колени, просить прощения и целовать ее ноги, которые он так долго ласкал минувшей ночью. Но что толку просить прощения за то, что ты такой, какой есть? Это все равно ничего не изменит…
– Так. Ты правильно понял, – Надя помотала стриженной головой. – Я вижу: ты ругаешь себя, что спросил. Но ты правильно спросил. Лучше знать сейчас, пока мы еще не… Я уважаю его и, наверное, даже люблю. Он очень умный и несчастный. Хотя и думает, что счастливый. Он тоже уважает меня и во всем мне доверяет. Между народным делом и многощетинковыми червями для меня остается немного места, но большего мне никогда и не обещали. Ты понимаешь, Ипполит никогда не обманывал меня…
– Понимаю, – кивнул Измайлов. – Сам был таким. И черт бы побрал это народное дело вместе с многощетинковыми червями!
– Прости за все. Я понимаю, что теперь мы… ты… Ты не волнуйся! Я стану уходить надолго, а потом в углу спать. Через пять дней уж должна Варвара приехать. И… спасибо тебе! Ты даже представить себе не можешь… – она нагнулась за мешком, кожаные штаны плотно обтянули ее небольшие ягодицы.
– Оставь все и иди сюда! – властно сказал Измайлов.
Она взглянула на него глазами, полными слез и надежды. Он закусил губу, почувствовав какую-то странную ответственность. Совершенно абсурдную по только что выясненным обстоятельствам.
Надя присела на краешек лежанки. Он был еще слишком неловок и ограничен в движениях, чтобы раздеть ее. Совершенно по-деловому он сообщил ей об этом. Повинуясь его словам и взгляду, она сделала все сама. Ее тело было прохладным, плотным и упругим, как свежий, недавно вылезший грибок. От нее даже пахло только что вспаханной землей. Этот запах Измайлов помнил из детства. Ее ласки были похожи на случайные прикосновения воды и веток с листьями к разгоряченной коже. Он как будто бы бежал нагишом через мокрый весенний лес. В лицо ей он старался не смотреть. Она все время жмурилась и кусала губы, как будто он причинял ей боль. Он точно знал, что это не так, но все равно переживал и нервничал.
Только непомерная гордыня, смолоду и на всю жизнь присущая Марфе Парфеновне, удержала ее от слез. Шагнув к старичку, она подняла его высохшую руку и поцеловала в ладонь.
Поселившись в усадьбе Гордеевых, Тихон ни дня не бездельничал. Положил тощую котомку на лавку и сразу попросился работать по дереву. Мефодий, старший над слугами, но плотник по изначальному обеспечению судьбы, быстро снабдил старичка потребным материалом и инструментом. Теперь Тихон все светлое время сидел у окошка и, мурлыкая себе под нос, резал и собирал замысловатые игрушки – мельнички, медведей с пилой, зверюшек и кукол с движущимися руками и ногами. Побывав с Мефодием на прииске, две недели кумекал и к удивлению всех собрал-таки действующую модель золотопромывальной машины-бочки с водяным приводом, в которую можно было даже засыпать песок. Игрушки свои Тихон охотно дарил всем желающим (от желающих, понятно, не было отбою, но, согласно Марфиному распоряжению, преимущественным правом пользовались внуки Гордеева и дети Веры Михайловой). Сама Марфа обычно приходила в Тишину сторожку к вечеру, когда темнело, и он уже не мог работать (свечей и лампу Тихон не зажигал, привычно считая непомерным расходом). Рассказывала обо всем, что случилось за эти долгие годы с ней и вокруг нее, силилась понять, объяснить не то Тише, а скорее – себе. Тихон слушал смирно, сложив на коленях натруженные руки, наслаждаясь, пил чай с сахаром и баранками и – впервые в жизни – кофей. Спрашивал редко. Понимал ли четверть – Бог весть. Но Марфе и того было довольно – впервые в жизни она говорила о себе. Впервые в жизни (после той, далекой и призрачной, молодой поры) у нее был слушатель, которому она могла поведать обо всех своих победах и поражениях, сомнениях и страхах. Тихон действительно был нужен ей. Теперь это отчетливо понимал не только он сам, но и Марфа. Синими сибирскими вечерами два очень старых человека совместно творили что-то такое, что, приглядись кто повнимательнее, вполне мог бы назвать счастьем. Но приглядываться было некому. У всех вокруг кипели свои, очень важные, нужные и непременно спешные дела.
Глава 4
В которой Надя Коронина и Андрей Измайлов весьма близко узнают друг друга, а читатель знакомится с историей, которая случилась в Егорьевске несколько лет назад
Неожиданно в середине дня ей вдруг захотелось, чтоб он увидел ее обнаженной. Только что прошел дождь, снова выглянуло солнце и опавшие листья блестели от воды. Желтые свечки лиственниц отливали золотом, темные, почти черные ели горели угрюмым сланцевым блеском.
Надя развела в очаге большой огонь, половчее развесила связки корешков и пучки трав. Снарядила котел с водой, чтоб после сделать ему перевязку.
– Жарко, – пожаловался Измайлов.
– Сейчас дверь открою, – сказала Надя. – А вы – в окно смотрите.
Прямо на улице сбросила одежду, чувяки, белье, подняла руки и босиком закружилась по мокрым скользким листьям. Его взгляд плавил мутное стекло и это было приятно. Стыда не было совсем. Ей казалось, что она, наконец, достала платье от хорошего портного, которое много лет висело в гардеробе и не использовалось по назначению. С веток летели ледяные капли и охлаждали разгоряченную кожу.
С охапкой одежды вошла обратно в зимовье. Нагретые щербатые доски пола приятно массировали ступни. Измайлов смотрел с лежанки серьезными, темными глазами. Она поняла, что с ним никогда не будет легко. Вздохнула с сожалением и приняла, как есть.
– Ваш муж?… – спросил он.
– Мой муж, Ипполит Михайлович Петропавловский-Коронин, – бывший член Народной Воли, – покорно объяснила Надя, оставив одежду на полу и завернувшись в какую-то пыльную попонку. – Ссыльный. Ученый, когда-то в Санкт-Петербургском университете изучал многощетинковых червей. Потом вступил в кружок, увлекся идеями, борьбой за народное дело… Вы, наверное, лучше меня знаете, как это бывает… – Измайлов кивнул, подтверждая: знаю, мол, как же не знать!
– Раньше он жил на поселении в Егорьевске, здесь мы и познакомились. У нас все образованные люди наперечет, а он и среди них выделялся. Крупнее его только Гордеев был, да, может, еще Матвей Александрович… Ипполит Михайлович много рассказывал мне, из естественных наук, о положении народа. Тут я, наверное, не меньше его знала, но он разъяснить умел, что да почему… В общем, когда ему позволили в Екатеринбург перебраться, я с ним поехала, поступила там на курсы… Мы стали вместе жить, а потом на Пасху поженились, три года уж прошло…
– Что ж Ипполит Михайлович и в Екатеринбурге какую-то работу ведет? – осведомился Измайлов. Лицо его показалось Наде холодным и отчужденным. Она заторопилась с ответом.
– Конечно! Конечно! Я не все знаю, да и конспирация у них, но… Там собрания регулярно бывают, журнал рукописный, читают статьи, которые товарищи из России присылают. В прошлом году организовали побег из Тобольского централа…
– Довольно! – Измайлов поднял руку, словно заслоняясь от Надиных слов. – Я понял. И что же вы… вы, Надя, конечно, целиком и полностью разделяете убеждения вашего мужа?
Надя нахмурила густые брови и провела рукой по лицу, словно снимая налипшую паутину. Видно было, что ответ не дается ей попросту.
– Отчего-то мне хочется ответить вам, не соврав, – медленно сказала она. – А это трудно. Я, вы уж поняли, давно медициной увлечена. С самого детства. В этом видела и вижу свое предназначение…
– А семья? Дети? – быстро переспросил Измайлов.
Он уже сталкивался с подобной позицией у женского пола, правда, она была никак не связана с медициной. Те женщины-товарищи, из его молодости, пугали его даже тогда, когда он сам был нешуточно увлечен романтикой борьбы. Горячась и дымя папиросами ему в лицо, молодые революционерки упрекали его в ригидности, консерватизме, непонимании момента и пристрастии к женскому неравноправию. Он соглашался скрепя сердце, но в глубине души все-таки считал, что изготовление бомб, теракты, тюрьмы и всякая другая подпольная, сопряженная с риском и опасностью деятельность – сугубо мужское дело.
– Детей у нас пока нет, – ответила Надя и опустила голову. – Может, я бесплодна, может быть, Ипполит… А может, просто время не пришло…
– Простите меня, – он вдруг почувствовал себя жестоким и бестактным. Она спасла ему жизнь как раз благодаря своему давнему и серьезному пристрастию к медицине. Она стояла перед ним босиком, практически голая, завернувшись в какую-то нелепую накидку. Она молода и привлекательна. Ее муж, ссыльный Петропавловский-Коронин, наверняка – бирюк и зануда. А он устроил ей форменный допрос, как в крепости…
– И вы простите меня, Андрей Андреевич. Мне легко с вами говорить и вдруг пошалить захотелось, а это в моем и вашем положении… невместно…
– Отчего ж невместно пошалить? – он приказывал себе замолчать, но язык, все тело не подчинялось приказам. – Всегда серьезным не будешь. Только надобно нам с вами сейчас уточнить, чтобы после конфуза не случилось. Вы чего ж из шалости желаете: наставить теперь господину Коронину рога или просто… покрасоваться собой перед немощным инвалидом, как дамы перед зеркалом в драгоценностях вертятся?
Он так быстро, точно и окончательно понял ее, что Надя, наконец, смутилась и впервые увидела всю ситуацию как бы со стороны. Тихонечко взвизгнув, подхватила одежду и выбежала из зимовья, на пороге обронив попонку, в которую завернулась на время разговора.
Измайлов грустно улыбнулся и принялся ждать. Что ему еще оставалось? По правилам игры надо было бы теперь побежать за ней, догнать, облапить, целовать мокрое лицо и острые, торчащие груди, но – увы! – на это у него еще не было сил.
Надя вернулась к вечеру. Полностью одетая, серьезная, отчужденная.
– Надобно вас перевязать.
Измайлов поморщился, но кивнул согласно.
Во время перевязки она старалась поменьше прикасаться к нему. В ее движениях не было прежней ласки. Он это чувствовал и кусал губы от боли и досады.
Лежанка в зимовье была одна и довольно узкая. Он боялся, что она уйдет спать в угол, подстелив шкуры и одеяло. Но, молча поужинав, они легли, как и в прежние ночи – валетом, голова к ногам. Дождавшись, когда ее дыхание выровняется, Измайлов осторожно просунул руку под одеяло и погладил ее крутые икры и маленькие ступни. Надя замерла, ему показалось, что даже едва слышное дыхание исчезло. Он подождал еще. Она молчала, но не противилась ласке. Он ласкал ее долго и нежно. Один раз она тихонько застонала сквозь зубы и в ее стоне ему послышалось удивление. Он мысленно, но довольно крепко высказался в адрес народовольца Коронина. В конце концов, она подобрала ноги и села на лежанке. Он видел ее черный, сгорбленный силуэт.
– Вы на меня не сердитесь, Андрей Андреевич? Не презираете меня?
– Нет, конечно, маленькая, как ты подумать могла?! – прошептал Измайлов. – Ты такая красивая была там, на полянке, дикая, на коже – золотые отблески. Я даже на секунду подумал, что это ты так шаманишь, чтобы меня побыстрее вылечить.
– Правда?
– Истинная правда. На такую красоту только взглянуть – лучше всякого лекарства.
Она всхлипнула, быстро и ловко перевернулась и юркнула в его объятия. Он прижал ее к себе и крепко поцеловал в холодные, соленые губы. Она неумело ответила на поцелуй, а спустя несколько минут уже спала, расслабившись и тесно прижавшись к нему. Измайлов смотрел в окно и механически гладил ее жесткие короткие волосы.
Наутро они проснулись так, как будто знали друг друга всю жизнь. Готовя завтрак и утреннее питье для больного, Надя фальшиво напевала и пританцовывала. То, что ее репертуар наполовину состоял из колодных и острожных песен, смешило Измайлова чрезвычайно.
Во время еды и собираясь в лес за очередной порцией корешков она все время старалась как бы ненароком коснуться его – плечом, рукой, щекой. Он ловил ее за руку и целовал и брал в рот по очереди грубые маленькие пальчики.
– Не тронь, грязные! – с испугом говорила она.
Она умывалась, но под ногтями у нее была въевшаяся грязь все от тех же корешков.
Стремление уяснить все до конца всегда мешало ему жить, и портило даже самые лучшие моменты. Его вопрос остановил ее на пороге.
– Ты ведь никогда не оставишь своего Коронина, так?
Она обернулась и опустила мешок. Маленькая лопатка тихонько звякнула внутри. Лицо ее казалось разом потухшим, и ему захотелось сползти с лежанки, опуститься на колени, просить прощения и целовать ее ноги, которые он так долго ласкал минувшей ночью. Но что толку просить прощения за то, что ты такой, какой есть? Это все равно ничего не изменит…
– Так. Ты правильно понял, – Надя помотала стриженной головой. – Я вижу: ты ругаешь себя, что спросил. Но ты правильно спросил. Лучше знать сейчас, пока мы еще не… Я уважаю его и, наверное, даже люблю. Он очень умный и несчастный. Хотя и думает, что счастливый. Он тоже уважает меня и во всем мне доверяет. Между народным делом и многощетинковыми червями для меня остается немного места, но большего мне никогда и не обещали. Ты понимаешь, Ипполит никогда не обманывал меня…
– Понимаю, – кивнул Измайлов. – Сам был таким. И черт бы побрал это народное дело вместе с многощетинковыми червями!
– Прости за все. Я понимаю, что теперь мы… ты… Ты не волнуйся! Я стану уходить надолго, а потом в углу спать. Через пять дней уж должна Варвара приехать. И… спасибо тебе! Ты даже представить себе не можешь… – она нагнулась за мешком, кожаные штаны плотно обтянули ее небольшие ягодицы.
– Оставь все и иди сюда! – властно сказал Измайлов.
Она взглянула на него глазами, полными слез и надежды. Он закусил губу, почувствовав какую-то странную ответственность. Совершенно абсурдную по только что выясненным обстоятельствам.
Надя присела на краешек лежанки. Он был еще слишком неловок и ограничен в движениях, чтобы раздеть ее. Совершенно по-деловому он сообщил ей об этом. Повинуясь его словам и взгляду, она сделала все сама. Ее тело было прохладным, плотным и упругим, как свежий, недавно вылезший грибок. От нее даже пахло только что вспаханной землей. Этот запах Измайлов помнил из детства. Ее ласки были похожи на случайные прикосновения воды и веток с листьями к разгоряченной коже. Он как будто бы бежал нагишом через мокрый весенний лес. В лицо ей он старался не смотреть. Она все время жмурилась и кусала губы, как будто он причинял ей боль. Он точно знал, что это не так, но все равно переживал и нервничал.