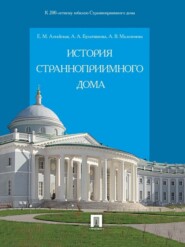По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Странноприимного дома
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тот есть сын Вышнего, как говорит Сирах.
Писатель Александр Дюваль прочел во Французской академии элегию «Обращение к тени графини Шереметевой» (в ней рассказывалось, как призрак супруги внушил графу мысль о благотворительности). На открытии Дома звучали «Стихи к благодетельному вельможе» (подобных им было тогда множество). Стихи же, посвященные Малиновским маленькому сыну Шереметевых Дмитрию, поместили в куполе новой церкви Странноприимного дома вместе с изображением (в виде одного из ангелов) маленького графа:
В небесной славе здесь парящим по эфиру
Средь ликов ангельских твой вид изображен.
Живя между людьми, явишь собой ты миру,
Что к вечным истинам и дух твой воспарен.
В середине девятнадцатого столетия художник Фартусов восстановил изображения в куполе храма – но уже без надписи.
Перед самым открытием – 24 июня – совет Дома впервые рассматривал просьбы бедных невест о назначении приданого (на этот вид помощи указала в завещании графиня Шереметева). Размер приданого для каждой из девяти отобранных девушек определял жребий. Одной досталась тысяча рублей, двум – по половине этой суммы, шести – по 300. Совет назначил и дополнительное приданое – уже без жеребьевки: еще шести невестам по 200 рублей и десяти – по 100. Получить приданое можно было по предъявлении свидетельства венчавшего священника. В течение пяти лет девушка должна была вступить в брак – иначе утрачивалось ее право на приданое. Однако позже совет разрешил тянуть жребий и тем, кто не смог в пятилетний срок выйти замуж – при условии, что девушки были «по бедности и хорошему поведению достойными уважения, а летами еще молоды».
Почетные граждане Москвы получили более тысячи пригласительных билетов на открытие. В Доме уже находились все будущие богаделенные, все, кому было назначено пособие, все бедные невесты, которым доставалось приданое. Гостей и желающих увидеть торжественную церемонию было множество.
Во главе почетных гостей прибыл главнокомандующий – московский военный губернатор граф Иван Васильевич Гудович. Почтил Дом своим присутствием и преосвященный Августин (впоследствии митрополит Московский и Коломенский – именно он в 1812 году спасет святую икону Владимирской Божией Матери). Сопровождали его два архимандрита, два протоиерея и 13 священников. Ими был освящен главный храм Живо-начальной Троицы (придел Святителя Николая Чудотворца освятили уже 7 июня, а придел святителя Димитрия Ростовского Чудотворца – 27 июня).
Торжественную литургию служил также преосвященный Августин с прибывшими архимандритами, протоиереями и священниками.
Когда богослужение завершалось, настоятель храма Живоначальной Троицы отец Алексей Отрадинский обратился к присутствующим со словом на евангельский текст: «…Благотворения и общения не забывайте, таковыми бо жертвами благоугождается Бог».
Он говорил о задачах открывшегося учреждения, где «тысячи больных и страждущих, сирых, бедных и беззащитных найдут себе покой и отраду, найдут вожделенный призор, после которого не прольется ни одной слезы, кроме удовольственной и признательной, не услышится ни единого вздоха, кроме радостного и чувствительного, кроме искреннего и благодарного…».
Напоминал о необходимости помощи ближним – ибо способность к ней дана человеку создателем: «Нет вещи в сем мире, которая б в своем роде не была для других полезна, и нет вещи, которая бы нужного для себя в природе не обретала. Вселенная скреплена такою цепью, где ни одна вещь без другой обойтись не может; где каждое существо одно другому служить, помогать и споспешествовать сотворено».
Отец Алексей обращал внимание и на то, что доброе начинание графа Шереметева не исчезнет с течением времени. Памятью о нем и его продолжением станет сама деятельность Дома: «Были и есть сострадательныя души: многие любили странноприимство, помогали бедствующим, и ныне не без таких людей, которые расположены для ближних делать добро, но сии благодеяния суть или единовременны, или не продолжительны, пока существуют благотворители; между тем, как здесь всякой безмятежно проведет дни свои до поздней старости, и на спокойном ложе, с исполненным любви сердцем к Учредителю и с твердым упованием на Бога мирно закроет взоры свои, здесь в один год несколько немощных и расслабленных воспрянут от болезненных одров своих, и с благодарной душой отидут каждый в свое место. Здесь один получает себе пособие ныне, другой в непродолжительном времени… и доколе не померкнет солнце, доколе будет существовать мир, дотоле будут неизменны благодеяния места сего. Можно пророчески сказать, что сие благодетельное заведение будет нарочитое уничтожение бедности и нищеты. И, если бедность есть иногда поводом к беззакониям и распутствам, то уменьшение оной есть пресечение пороков и умножение нравственности…»
Хронологическая таблица
Глава 3
ФРАНЦУЗЫ В МОСКВЕ
«Погода была довольно хорошая; но странный ветер, усиленный, а может быть, и произведенный свирепствующим пожаром, едва позволял стоять на ногах. Внутри Кремля не было еще пожара, но с площадки, за рекой, видно было одно только пламя и ужасные клубы дыма; изредка кой-где можно было различить кровли не загоревшихся еще строений и колокольни; а вправо, за Грановитой палатой, за кремлевской стеной, подымалось до небес черное, густое, дымное облако, и слышен был треск от обрушающихся кровлей и стен». Так описывал один из памятных сентябрьских дней 1812 года Василий Алексеевич Перовский, будущий генерал и видный государственный деятель, оказавшийся в плену у наполеоновской армии при ее вступлении в Москву.
Со дня открытия Странноприимного дома прошло всего два года, но уже увидел свет первый официальный отчет о его работе. Однако вскоре деятельность заведения на пользу общества должна была прекратиться из-за вражеского вторжения.
Уже через восемь месяцев работы «странноприимницы» «Московские ведомости», обязанные публиковать ежегодный отчет о деятельности Дома, сообщали москвичам, насколько успешно оказывают помощь в недавно открытом графом Н. П. Шереметевым учреждении: «Для надлежащего сведения обществу о благоуспешности сего заведения прилагается здесь краткая выписка, сколько со дня открытия Дома Странноприимного в течении осьми месяцев, то есть с 23 июня минувшего года по 24 сего февраля, содержалось в богадельне людей, коли-кое число лиц поступило в больницу.
1. В богадельне сего заведения довольствовано было жилищем, пищею, платьем и всяческими потребностями разного состояния гонимых судьбою престарелых и неизлечимых: мужчин 64, из них умерло 6, уволено по приискании мест 4, выключено 6. Женщин 54, из них выключено 4. Затем к 24 февраля налицо богадельных обоего пола состоит 98 человек.
2. В больнице безденежно лечимы были всякого звания и возраста бедных мужчин 93, женщин 108. Из числа их умерло – мужчин 8, женщин 6. Выздоровело – мужчин 66, женщин 81. Затем к 24 февраля налицо больных состоит 40 человек».
6 и 18 июля 1812 года, спустя менее месяца после начала военных действий, в России вышли правительственные манифесты о наборе в народное ополчение по 16 губерниям. Более всего ряды волонтеров пополнились за счет жителей Москвы и Московской губернии (на 100 душ мужского населения здесь приходилось 10 добровольцев). Сотрудники Московского архива коллегии иностранных дел, одним из руководителей которого являлся главный смотритель Странноприимного дома Алексей Федорович Малиновский, также стали просить об увольнении «на время от дел архива для вступления во внутреннее ополчение Московских внутренних сил». 14 августа архиву разрешили отпускать в народные войска «желающих и служащих без жалования, без коих обойтись может».
Присутственные места собирали казенное имущество, чтобы подготовить его к вывозу из Москвы. Монастыри и церкви отправляли за пределы города всю утварь, какую возможно было спасти.
Федор Васильевич Ростопчин
22 августа Малиновский объявил совету Дома, что по ордеру главнокомандующего Федора Васильевича Ростопчина ему дано поручение отправиться с архивом во Владимир. Вместе с государственными бумагами снарядили деньги и документы Дома и церковное убранство храма Живоначальной Троицы. В день Бородинской битвы – 26 августа – архив уже находился в городе Покрове Владимирской губернии, 27 августа прибыл во Владимир. Выполнение своих обязанностей по управлению Домом главный смотритель доверил первому помощнику Соймонову.
В августовские ночи, «которые в то время были светлые, – вспоминал ушедший в ополчение переводчик архива Михаил Евреинов, – тянулись большие обозы, на которых начали вывозить сокровища, ризницы и царские драгоценности, также достопамятные бумаги из Архива Иностранных дел».
В тот же день, когда Малиновский объявил о необходимости отъезда, проходило одно из последних собраний совета Странноприимного дома. В журнале заседаний от 22 августа было записано:
«Совет Дома Странноприимного, имев разсуждение, по примеру прочих присутственных мест, о мерах, какие бы принять в случае несчастном и в опасности от неприятеля, определил:
1) Имеющиеся под бельэтажем темные подвалы закласть кирпичом, положив там железный сундук с деньгами и что есть лучшего.
2) Дела и книги нужнейшие, уложив в сундук, туда ж поставить.
3) Чиновникам подлинные пашпорты и аттестаты поручно выдать для лучшего охранения.
4) Каждому из живущих в Доме позволить в те замуравленные подвалы ставить лучшее свое имущество в сундуках с надписью, кому что принадлежит.
5) Здоровых богаделенных отослать к родственникам и благодетелям, у кого известно, что таковые есть, а слабых и увечных оставить.
6) На случай, если необходима будет оборона против неприятеля, купить немедленно тридцать пик и раздать в свое время рабочим и прислужникам, могущим владеть оружием.
7) Сундук, где священником уложена утварь: два евангелия, два креста, дароносица, два кадила, три потира с прибором, ковш и ложка, отправить (и отправлено) с главным смотрителем при делах архива иностранной коллегии, во Владимир препровождаемых.
8) Из числа наличных денег отдать пять тысяч рублей (и отданы) главному смотрителю за казенною печатью на сохранение и для доставления оных в Москву, когда от него востребуются».
В конце августа Новинский и Смоленский бульвары запрудили телеги с ранеными солдатами. В Доме приготовили 25 дополнительных мест для нуждающихся в помощи бойцов.
31 августа совет Странноприимного дома собрался в последний раз (следующее заседание откроется лишь спустя четыре месяца), к Москве уже приближалась французские полки. Члены комитета приняли решение о роспуске призреваемых: «…Больным и богаделенным объявить о выдаче их билетов, чтобы они каждый находили себе пристанище. Ибо, по случаю нынешних обстоятельств, Дом содержать их не может».
По слухам, некоторые богаделенные спаслись от нашествия в имениях графа Шереметева, где и жили до тех пор, пока Наполеон не оставил Москву.
До сдачи города оставались считанные дни, а многие москвичи все еще не покидали жилищ, до последнего надеясь на благоприятный исход. Так, автор «Истории государства Российского» Николай Михайлович Карамзин выехал из Первопрестольной 1 сентября – за несколько часов до вступления Бонапарта в Москву. Кстати, по окончании войны знаменитый писатель не однажды будет принимать экзамены у молодого графа Дмитрия Николаевича Шереметева и сделает запись в дневнике о том, что всегда с неизменным удовольствием видит и слушает юношу.
Огонь московских пожаров не пощадил огромную коллекцию книг, собранных историографом за всю жизнь. К счастью, рукопись знаменитой летописи осталась невредима. «Вся моя библиотека обратилась в пепел, но История цела», – сообщал о происшествии мыслитель.
Вечером 7 сентября Николай Николаевич Бантыш-Каменский (историк, оказавший огромную помощь Карамзину в написании «Истории», а также наставник Алексея Малиновского) получил предписание владимирского губернатора А. Н. Супонева перевезти архив в Нижний Новгород. Туда же направлялось множество присутственных мест. Через девять дней, 16 сентября, документы были уже в Нижнем.
В Нижнем Новгороде сотрудники архива встретили Карамзина. «Триумвират историков: Карамзин, Бантыш-Каменский и Малиновский каждый день беседовали о несчастьях отечества. И когда сомневался кто-нибудь в счастливом окончании дел, Карамзин пророчески указывал на кремль нижегородский, напоминая Минина и уверяя, что каковы были русские в 1612 году, таковы будут они и в 1812».
Тем временем Дом покинула большая часть его жителей. Попечитель, генерал-майор Василий Сергеевич Шереметев, оставляет вверенное ему учреждение, поскольку «надеется быть употребленным на составление военного ополчения в Нижнем Новгороде». Уходили в ополчение и рядовые сотрудники Дома.
В день входа французов в Москву, 2 сентября 1812 года, в «странноприимнице» находилось только 11 раненых офицеров, больных отправляли на лечение в Екатерининскую больницу. В богадельне обреталось 32 человека. Все меры, указанные советом, были приняты. Из тех, кто работал в Доме, остались канцелярский служитель Назаров, аптекарь Лорбеер (ему временно передал свои обязанности Петр Михайлович Бер), помощник аптекаря Гельвинг, швейцар, сиделки, прачки и рабочие. Помощника главного смотрителя Муравьева сменил надворный советник С. В. Протопопов. Доктор Яков Вильгельмович Кир направился на родину, в Шотландию (откуда вернулся лишь 8 июня 1813 года), передав свои обязанности штаб-лекарю Крылову. Военный караул, охранявший Дом в соответствии с выполненной императором Александром просьбой Шереметева, ушел в действующую армию. За безопасностью Дома теперь следили сами его служащие. В храме Живоначальной Троицы богослужения не прекращались до тех пор, пока это было возможно. Странноприимному дому предстояло испытать «все неистовства, какие токмо изобрести могут одни просвещенные французы». Так описывал пребывание неприятеля в Москве Федор Иванович Корбелецкий в своей книге «Краткое повествование о вторжении французов в Москву и о пребывании их в оной, описанное с 31 августа по 27 сентября 1812 г. Ф. Корбелецким с присовокуплением собственного его странствования», изданной в Санкт-Петербурге в 1813 году.
Напрасно ожидавший за городом депутатов с московскими ключами, Наполеон принял решение лично поехать за ними и оказался в Белокаменной во вторник, 3 сентября, въехав «в половине одиннадцатого часа утра в Дорогомиловскую заставу. Арбат был совершенно пуст». На улице Бонапарт увидел только содержателя одной из аптек и его семью, а также раненого французского генерала, «накануне к ним поставленного постоем». «Подъехав ближе, Наполеон посмотрел на них вверх весьма злобно», окинул быстрым взглядом весь дом, вновь бросил взгляд на находящихся у окна – и продолжил путь.
«Он сидел на маленькой арабской лошади, в сером сюртуке, в простой треугольной шляпе, без всякого знака отличия. В расстоянии ста сажен ехали перед ним два эскадрона конной гвардии. Свита маршала и других чиновников, окружавших Наполеона, была весьма многочисленна. Пестрота мундиров, богатство оных, орденские ленты различных цветов – все сие делало картину прекрасною, а простоту Наполеонова убранства еще разительнейшею».
(Источник: Корбелецкий Ф. И. Краткое повествование о вторжении французов в Москву.)