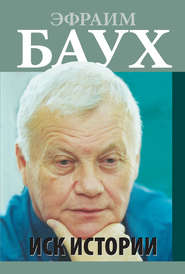По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Над краем кратера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нагнувшись, она ловко управляется с тряпкой, а я не отвожу глаз от нее, я вижу ноги ее выше колен, такие крепкие, так неожиданно и молодо утончающие книзу и матово светящиеся. И я стою в дверях и намеренно выжидаю, пока она вымоет весь пол в классе, не отвожу глаз от ее ног. Я чувствую себя виноватым, и почти растворяюсь в блаженстве этой вины.
И она, я знаю, ощущает мое присутствие, хотя как будто и не замечает меня, но до того ловко, легко, играючи наводит чистоту в порядком надоевших мне стенах. И в непривычно пустынном классе, как никогда раньше и никогда позже, слабо и радостно пахнет свежестью, чистой водой, сухим солнцем, светящейся белизной крепких девичьих ног, когда, обдав меня прохладой, она проносит ведра, а я, покраснев до корней волос, чуть не влезаю головой в парту, ища запропастившийся учебник.
Она старше меня, где-то работает, но каждую неделю, раз-другой, появляется в школе, и всегда я встречаю ее в неожиданном месте, не успев подготовиться, чтобы запомнить ее. И проносится летучий облик, до того светящийся, что сердце замирает. Неуловимо плавное скольжение девичьего тела обдает обжигающей прохладой, заставляет сжаться и ощутить, как цепенеют кончики пальцев на руках и ногах. И в самый темно-оливковый зной – младенческий овал ее молочных щек и подбородка с едва пробивающимся румянцем явственно окутан слабо колышущимся облачком пара, как будто только что их натерли холодным девственным снегом.
Глаз ее и волос не вижу, прячу руки за спину, потому что охватывает и обессиливает, как внезапный голод, одно желание – прикоснуться ладонью к ее щеке или подбородку, почувствовать нежно леденящий огонь. Это наваждение преследует меня, пугает, унижает, доставляет блаженство, покрывает испариной, стесняет дыхание, и также неожиданно исчезает, как и возникло. С некоторым даже испугом обнаруживаю, что всё меня мучающее испарилось. Правда, Таня почти перестает появляться в школе.
Лишь однажды встречаю ее в центре города, вижу издалека: медленно идет мне навстречу, задумавшись, не замечая меня, и я могу вдоволь насмотреться на изводивший меня мягко ускользающий овал. Приготовившись к страху и стыду, ничего не испытываю. И так мне себя и ее жаль.
Отчего же так?
Может быть, среди приевшихся стен школы, в сумрачном коридоре, пропахшем не выветривающимся детским потом и влажными половыми тряпками, ее летучий облик подобен был явлению корабля в изматывающем однообразии детства? Но это же явление меркнет в городе, полном неожиданности за каждым поворотом.
Годами ходишь мимо желтого здания Управления торговли, и однажды, подняв голову, неожиданно видишь в нишах стен над окнами аллегорические фигуры женщин в длинных одеяниях, а одну из них – с повязкой на глазах, с весами в одной и мечом в другой руке, вспоминаешь: Фемида, богиня правосудия. Удивляешься: так вот где был старый суд, вот, где работал мой отец. Столько я слышал об этом здании, но оно казалось далеким и разрушенным, как и рассказ отца о нем. Даже в голову не приходило, что каждый день по дороге в школу идешь мимо него.
Но это же разное – явление корабля, женской каменной грации в стенной нише и плавное скольжение тела, слабое сияние, будто нимб, вокруг девичьего лица, белизна ног выше колен.
Неужели и сейчас мне, тридцатидвухлетнему, признаться трудно, что тогда, в неполные пятнадцать, это было впервые во мне проснувшееся желание женщины. Желание ее непознанного, но до головокружения ощутимого обаяния, ее несравнимого ни с чем вокруг меня самого в себе прекрасного существования, ее бесстыдной смелости в том, как она идет, дышит, ослепительно смеется, обдает прохладой, своеволием, оскорбительной независимостью. И это пугает до того, что горло перехватывает в миг тающей тайной, затягивающей, как омут?
Но почему трудно? Стыдно? В пятнадцать лет, что ли, слишком рано, и запретительная механика моего воспитания пустила дымовую завесу – корабль, Фемиду? Таня – в облике Фемиды. Даже весело.
Или стыдно, что такой по силе и тонкости порыв я в испуге ухитрился поспешно и успешно погасить?
А мог бы повернуть меня к иной линии жизни, с более высокой температурой существования, потому что это было впервые. Но я погасил в себе этот порыв и погрузился в спасительное однообразие. Потом это становится привычкой на всю жизнь. Условным рефлексом.
* * *
Ворох сомнений, смута, невнятность и необъяснимость охватившей меня тоски – будто я накануне нового состояния своей души.
Меня всегда страшит и притягивает, как спасение, эта накатывающая, накрывающая с головой, размытая, ускользающая из памяти, полоса между двумя состояниями, с фотографической отчетливостью встающими передо мной. Полоса эта, как прибой, пенистый, мутный, мешающий воду, камни, песок. Беспамятный хаос перехода. А по обеим его сторонам – чистое море и недвижно замершая суша. И вот я – худой мальчик, взъерошенный, бестолково активный. И вдруг – не заметил, запамятовал, как поволокло прибоем. И стою с Другой стороны, совсем иной, трогаю пушок на подбородке, приглаживаю мокрые волосы, отряхиваю пушинки с брюк, по которым сам водил утюгом, готовясь идти в городской парк, где мы допоздна сидим почти всем классом. Стою и отчетливо вижу по ту сторону прибоя взъерошенного мальчика, и знаю, что это я, и не могу поверить.
А в парке летний воздух, пропах нагретой за день зеленью, и до того недвижен, что по-восточному причудливые формы листьев кажутся вырезанными в его сгущающейся к ночи синеве. Сидим группками, иногда по двое, ведем бесконечные, изматывающие, перескакивающие с темы на тему, несвязные, но, как потом выяснится, настоятельно необходимые разговоры.
Неожиданно замечаю, что мне интереснее всего говорить с бывшей соседкой по парте Людой, которая тоже, неизвестно когда, сменила косички на распущенные по плечам волосы, и по-детски пытливое и нескрываемое любопытство – на непривычную задумчивость в серых – что я лишь сейчас заметил – глазах. Разговаривает, а сама глядит вдаль, словно тоже с удивлением вглядывается по ту сторону прибоя в девочку с утиным носом и тонкой напропалую вертящейся шеей.
И в парковых бдениях допоздна перед последним школьным годом господствует одухотворенность, не менее свирепая, чем год-полтора назад жажда перещеголять друг друга в амурных посланиях.
Задумчивый медленный свет тургеневских вечеров, разлитая в сумерках печаль, тургеневские мужчины и женщины дворянских его романов, томные, с тонкими бледными лицами – вот идеальная атмосфера и идеальные существа. К ним, так или иначе, пролегают русла наших разговоров – через обрывки прочитанных книг, увиденных фильмов, через собственные такие еще наивные, пленяющие своей беспомощностью, рассуждения.
Мы и вправду все словно переболеваем сонной болезнью мечтательности, не замечая девичьей прелести наших одноклассниц – их чудно округлившихся коленей, их плавно удлинившихся шей, их замирающих, неожиданно притягивающих блеском и глубиной глаз. Им самим как будто не до этого. Оставшись вдвоем, часами бродим, не прикасаясь друг к Другу, и никак не можем выговориться. И нам кажется, что симпатии между нами возникают потому, что мы одинаково понимаем ту или иную книгу, героя, поступок.
Нас мучает навязчиво радостная готовность самопожертвования. Каждый жаждет оказаться третьим лишним, не понятым, гордым, одиноким. Но как быть, когда третьих лишних двое: всё те же двоюродные братья Бори?
Нравится ли мне Люда, не нравится? Но я всерьез хочу быть третьим лишним, и потому завожу с ней затейливые разговоры. Я знаю, она нравится Феликсу. Он симпатичный, скрытный. Разыгрывает из себя клоуна, по-обезьяньи ловок и быстр. Говорим о нём. Замечаю, что она его расхваливает, и уже наперед готовлюсь к роли третьего лишнего.
Дальше не помню. Снова внезапно с головой накрывает полоса прибоя – десятый класс, изматывающая зубрежка, треволнения, страхи, выпускные, вступительные – и расшвыривает нас прибой кого куда. Люда уезжает в Симферополь, поступает в медицинский институт.
* * *
Спустя двенадцать лет, проездом через Москву, неожиданно встречаю Люду в аэропорту Внуково. Наши рейсы отменены до вечера. На юге полоса гроз.
Люда похорошела, носит модную прическу. Узнаю, что она работает участковым педиатром в том же Симферополе. Муж у нее военный летчик, две дочки.
День солнечный, но неяркий, и мы гуляем по аллее среди подмосковных сосен, и кажется мне, что сменили листья на хвою, а аллея та же, что в юности.
Люда удивлена: ты не женат? С тем же нескрываемым любопытством, что в школьные годы, заглядывает мне в глаза, то ли жалеет, то ли радуется.
– И ни разу не влюбился?
– Да нет, вроде. Погляди, Люда, помнишь?
– Что?
– Почти наша аллея. И треп бесконечный – Лиза, Лаврецкий, любовь без взаимности, Феликс. Кстати, где он, что с ним, не знаешь?
– Меня это как-то не интересовало.
– Но он же тебе нравился?
– Феликс? – удивленно, недоверчиво, смеясь, смотрит на меня, – ха, ты что тогда ревновал?
– Когда?
– Ну, когда хвалила его? И ничего не понимал? Господи, прости меня, ты всегда был туп на сердечные чувства.
Она садится на скамью, она не перестает смеяться, на глазах у нее слезы, а я, остолбенев, и вправду ничего не понимая, стою рядом.
– Это так здорово, что мы встретились, – теперь она плачет, вытирает глаза платком, виновато улыбается, – ничего, ничего. Не обращай внимания. Знаешь, мне уже давно так легко не было, как сейчас. Эх ты, лапа-растяпа! Я же тебя так любила, ну, тебя же, тебя! Я улетела в Симферополь, я на первом курсе вышла замуж, чтобы стереть тебя с памяти. Но ты-то, ты? Ни в кого? Это тебе за меня наказанье, нет, шучу, – она уже смеется, берет меня под руку, мы идем по аллее.
Как же? Оказывается, под шумной поверхностной волной увлечений, повальной несерьезности, легковесности, которыми, как мне казалось, влекло, волокло всех нас, было и настоящее. И мучительное. И даже трагичное.
Но почему же и я оказался среди легких песчинок, с бестолковой радостью пляшущих на гребне волны, так, что пронесло меня мимо темной и живой глуби, пугающей, но настоящей?
Объявили посадку на Симферополь. Люда совсем повеселела, разрумянилась, шутила, расцеловалась со мной. Она словно бы сбросила на мои плечи груз стольких лет, и стало ей легко, и было радостно, что вот – она может пожалеть меня, я один-одинёшенек. О, я знаю, как облегчает душу жалость к другому.
Но, кажется, впервые так глухо и печально, почти по-старчески, я жалел себя и думал, глядя на Люду – как она изменилась. Да и о такой ли карьере она мечтала? Участковый педиатр. Она была очень способной девочкой, отличницей, грезилась ей научная работа, открытия.
Как он грустен всегда, этот разрыв между желаемым и действительным – обозначается как-то внезапно на лицах, читается по судьбам твоих сверстников.
* * *
Лежу, вспоминаю, загораю на пляже Шестнадцатой станции Большого Фонтана. Рядом – существо, в котором вся моя жизнь – Анастасия. Но язык не поворачивается называть ее Настенькой. Вокруг поодаль сидят, полулежат, снуют мимо юные создания, длинноволосые, соблазнительные. Они так плавно проносят свои тела и так молодо глядят вдаль, как будто знают наперед всю тайну своей приходящей жизни, как будто всю ее целиком несут перед собой, такую необычную, загадочную, широко и празднично развернувшуюся, как сверкающее под солнцем море с белым замершим кораблем на горизонте. Их словно готовят к этой будущей удивительной жизни, – пестуют, кормят, учат, возят на курорты, но уже где-то закипает, надвигается полоса прибоя, мутная, беспамятная, скрежещущая камнями и песком, с головой накрывает. И – глядь – замужество или совращение, слезы, быт, нелюбимый муж. Дети, измены, привычка.
И, приезжая на море, равнодушно глядят на праздничное пространство с замершим на горизонте белым кораблем, не узнавая в этом своей канувшей в вечность тайны.
Недалеко от меня, справа, ходит дед с лицом старого беркута: маленькие блестящие глазки, глубоко спрятанные среди морщин, впавший рот, и нос, как старый стёршийся клюв. Старик весь изломан – ноги внутрь и кости отовсюду выпирают, ходит вокруг дочки, толстой упитанной бабы в мелких кудельках, с красными краями век, и внучки, такой же кругленькой с уже намечающимся двойным подбородком, этакой «пампушечки», которая искоса бросает на мужчин взгляды. Замуж ей хочется. Народит детей, перенесёт измены мужа, считая, что так должно быть, или, наоборот, станет ведьмой, и превратит мужа в такого, как дед.
* * *