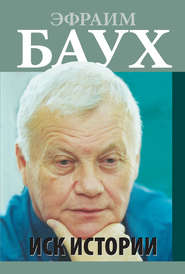По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Над краем кратера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кручу окуляры, раздваиваю изображение, как будто мерещится мне между двумя изображениями – щель: вход за кулисы воздуха – в собственную юность, в ее ушедшие, самые главные и уже невосполнимые возможности.
А между тем, есть же у меня опора, гигантский противовес охватывающему меня самоуничижению – Земля. На ней лежу в ночной этот час, перед тем, как пойти спать в комнату дома отдыха, лежу, заложив руки за голову, в суховатом запахе трав, вглядываясь в звезды. Земля покачивается и накреняется, как палуба корабля, земля, к которой причастен не только профессией геолога, но и остротой сопереживания. И в эти мгновения кажется, что переживаешь ее историю, как историю собственной жизни.
Не земля, схваченная сетью стен, заборов, заборчиков, лабиринтом проходов, тупиков, лазов и лестниц. Не земля недвижным воздухом однообразно совершающихся дней, страусиной верой в прочность покоя, огражденного камнем, стеклом, одеялом.
И без этой земли человеку не обойтись, но когда она становится единственной его, прочной, на трех китах и семи слонах, человек уже и сам иное существо, может быть, по душевной дремучести подобное тому, как в наши дни представление о земле на трех китах.
Не эта земля, а Земля, определившая мое влечение в юности, с которым я связан каждодневной работой в Каракумах вместе с другими, коллегами по Всесоюзному научно-исследовательскому геологическому институту, знаменитому ВСЕГЕи, работой, неотступно живущей во мне и тут, в дни отдыха.
Речь о Земле, схваченной иной сетью, которую изо дня в день плетут геологи, геофизики – служба Земли – плетут все гуще, сближая точку с точкой, узел к узлу. Это, по сути, круглосуточная вахта. Огромное пространство Земли разновременно. Лежу, затерявшись в ночи, а где-то, с Саяно-Алтайской складчатой области уже скоро день. Идет вахта с востока на запад, вокруг шарика – точка за точкой. И всего-то в каждой точке – измерить аномалию магнитного поля, аномалию силы тяжести. На первый взгляд кропотливо, скучно. Но соединились точки – и вот уже Земля пульсирует в сетях – в магнитном поле, гравитационном, термальном.
И сколь бы не был искушен в своем деле, с волнением читаешь карту гравитационного поля при свете уходящего дня с бескрайними, плоско замершими за пыльным окном казахскими степями. Представляешь, что в этой плоской тиши, на многокилометровой глубине под тобой, с медлительностью, трудно представимой для краткого человеческого века идет развитие разломов, и по ним – заметьте себе, – вся земная кора погружается к югу.
Так и ощущаешь весь напряженный, выгибающийся, прогибающийся, разрывающийся в глубине организм Земли – с ядром, мантией и корой. И недвижная, такая прочная на взгляд и поверхностное знание, Земля, оказывается, дышит, погружается и вздымается.
Лежу на земле, раскинув руки, чуть прикрыв глаза, и клонится земля, покато накреняется. И в эти полудремотные мгновения, кажется, я один на один с Землей, как бы выпячен на самом выпуклом ее пятачке, лечу в пространстве, не зная отдельного дерева, дома, города, отмечающих мое местонахождение. Я знаю лишь, что я на Земле, выделен ею, и соответственно великодушен, снисходителен, широк и справедлив.
Но вот в тишине, и потому, кажется, совсем рядом – звякнули посудой. Легким ветерком принесло из столовой бранчливый говорок официанток, и тут же обозначилось рядом дерево, за ним – забор дома отдыха, вся дребедень ночных городских шумов, и, как огонек, бегущий по бикфордову шнуру, слабо и бегло осветило и выстроило дома, трамвайный путь, повороты улиц, суету, нетерпеливость. Быстро-быстро, Греческая площадь – взрыв, ослепление.
Не уйти от всего того, что вчера со мной на ней произошло. А огонек бежит дальше по шнуру, через годы, к Зеленому театру в городе студенческой моей юности.
Куда делась медлительность и широта, прочность в охват Земли. Весь я снова опутан, как рыба, сетью собственной памяти, которую ткал для собственного же уловления.
И вряд ли земля со мной, выпяченным поближе к звездам, может в этот миг перевесить то, что было на Греческой площади или тогда, у Зеленого театра.
II
Юность: увеличивающие стёкла
…В забвенной дымке, в облачном бреду
Шумит арык на расстоянье метра.
Русалки водят хоровод в саду,
Поют и плачут голосами ветра.
Но то ль душа наивно молода —
Не понимает будущей печали.
Озноб рассвета. Темная вода
Качает утлый катер на причале.
В бауле фрукты, хлеб, два дневника.
А гребни волн возносят расставанье.
О, как же удивительно легка
Таинственная зыбь существованья.
Над головой Ай-Петри, Роман-Кош
И Демерджи – толпятся, с небом споря.
Вокруг меня ветшает Ялта, сплошь
Курортниками шаркая вдоль моря.
Оркестров галопирующая прыть,
Так лихо синкопирующих Листа,
Девчонки, что еще не могут скрыть
Наивности своей и любопытства,
Мужчины, что с любым накоротке,
Не просыхают в пьяни беспробудной —
Всё замыкает в чуждом городке
Миг жизни,
Миг потерянности чудной…
Таится завтра за бурленьем вод,
Душа грустит и места не находит.
По трапу поднимусь на теплоход.
Отдав концы, навечно Крым отходит.
Винт режет воды, мощен и строптив,
Разматывая дни и расстоянья.
Я слышу ясно – в первый раз – мотив:
То с юностью навечно расставанье.
И когда настигла она меня, юность?
И совсем не тогда, когда над классом нависает хриплый клекот зоолога, рассказывающего о ястребах и орлах, а в партах идет напряженная жизнь, кипит невидимая суета. Пишут записочки, письма, послания, скребут перьями бумагу. Стреляют письмами, скатанными в катышек, из трубок, ревниво следят, чтобы развернул тот, кому послано.
Чуткое ухо улавливает мышиный шорох бумаги. А зоолог сидит вполоборота к классу, перекинув ногу на ногу, прикрыв лицо ладонью, но между пальцами блестит весь в морщинках его орлиный глаз. Внезапно, с легкостью, ошеломляющей для его грузности, роста и возраста, бросается между парт. Мыши разбегаются. В руках у него добыча: сложенная вчетверо бумажка. Лениво располагается на стуле, цепляет на нос очки, небрежно извлеченные из бокового кармана, те же хриплым голосом читает:
«Ты – мой идеал! Монтекристо», – смотрит на класс поверх очков и его передергивает, – Бр-р-р! Что с вами, уважаемые? На глазах портитесь. В прошлый-то раз хотя бы по-человечески: ты мне нравишься! А это что? Чушь, бредятина, шелуха книжная, фу-у… Не ожидал».
Захваченный врасплох, класс пять минут приходит в себя, испуганно слушая зоолога, как ни в чем не бывало продолжающего изображать хищных.
Но постепенно мыши снова выползают из нор. Это можно узнать по моей соседке Люде: начинает вертеть шеей. По-моему, она способна запросто повернуть ее вокруг оси. Дело в том, что она никак не может позволить себе пропустить нити связи, налаженные или только возникающие. Не знать интимных дел всех и каждого – сверх ее сил.
А в классе эпидемия посланий, эмоциональной активности. Можно представить себе нагрузку на ее шею. Недавно я и сам чуть не схлопотал по шее из-за нее. Два двоюродных брата Бори, сидящие на последней парте, безнадежно в нее влюблены. Но так как я сижу с ней и запросто беседую по праву абсолютно к ней равнодушного, братья сделали обратный вывод и уже второй раз присылают мне «ультематум», не смущаясь уровнем грамотности и не считая мужской беседы за углом школы.
Взрыв чувств, спортивная свирепость в желании перещеголять друг друга выражением их к особе слабого пола, эпистолярная лихорадка – всё это было скорее похоже на яростно вспыхивающую однодневную жизнь эфемер, о которых тоже повествовал нам зоолог. Да и мы сами могли видеть в долгий день лета на реке нашей внезапные хлопьевидные обвалы прозрачнокрылых эфемер. Они жестко стрекотали, сновали по водам на ломких ногах, устилая воду своими телами. Это была баснословная, свалившаяся с неба манна для рыб.
Это было повальное увлечение, быть может, инфантильное заболевание созревающих подростков обоих полов, предшествующее наступлению юности. Каждый считал себя просто ничего не стоящим, если не обзаводился адресатом и не имел возможности похвастаться получением ответа, каким бы тот ни был.
Слишком назойливым было рекламирование чувств, через полгода мучительно скрываемых. Слишком категоричными были требования: не меньше, чем «на всю жизнь». Слишком прямолинейными были тексты: «Ты мне нравишься», «Давай дружить на всю жизнь», «Я не могу без тебя», «Ты – мой идеал». Как будто мы пробовали на ощупь, на голос, на пропись, на сочетание слов, которые еще так гладко, красиво и легко произносились. Все упивались, пока можно, этой легкостью, инстинктивно чувствуя, что скоро за их произнесение придется платить сердцем, кровью и даже жизнью.
Были тексты, которые копировались, служа образцами. А два брата Бори даже писали – «Мы без тебя не можем». И всерьез обсуждали возможность дружить втроем на всю жизнь.
* * *
Когда же она настигла меня, юность?
Не в тот ли миг, когда, сидя рядом с Людой и списывая с доски, внезапно чувствую, что она смотрит на меня? И я так остро, до нытья в суставах, вижу себя ее глазами: худые бледные руки в чернильных пятнах, потные волосы после возни на перемене, неказистая рубаха, которую мама сшила из своего старого платья, а под рубахой длинное мальчишеское тело и слабая грудь. Вижу, и чувствую, как холодею, хотя щеки горят, и я готов провалиться сквозь землю.
Или скорее в те несколько минут, когда после уроков обнаруживаю на полдороги, что нет в сумке учебника по физике, бегу обратно в школу, и застываю на пороге класса. Жду, пока дочь уборщицы Таня, девица лет шестнадцати, часто помогающая своей матери, вымоет полы.
А между тем, есть же у меня опора, гигантский противовес охватывающему меня самоуничижению – Земля. На ней лежу в ночной этот час, перед тем, как пойти спать в комнату дома отдыха, лежу, заложив руки за голову, в суховатом запахе трав, вглядываясь в звезды. Земля покачивается и накреняется, как палуба корабля, земля, к которой причастен не только профессией геолога, но и остротой сопереживания. И в эти мгновения кажется, что переживаешь ее историю, как историю собственной жизни.
Не земля, схваченная сетью стен, заборов, заборчиков, лабиринтом проходов, тупиков, лазов и лестниц. Не земля недвижным воздухом однообразно совершающихся дней, страусиной верой в прочность покоя, огражденного камнем, стеклом, одеялом.
И без этой земли человеку не обойтись, но когда она становится единственной его, прочной, на трех китах и семи слонах, человек уже и сам иное существо, может быть, по душевной дремучести подобное тому, как в наши дни представление о земле на трех китах.
Не эта земля, а Земля, определившая мое влечение в юности, с которым я связан каждодневной работой в Каракумах вместе с другими, коллегами по Всесоюзному научно-исследовательскому геологическому институту, знаменитому ВСЕГЕи, работой, неотступно живущей во мне и тут, в дни отдыха.
Речь о Земле, схваченной иной сетью, которую изо дня в день плетут геологи, геофизики – служба Земли – плетут все гуще, сближая точку с точкой, узел к узлу. Это, по сути, круглосуточная вахта. Огромное пространство Земли разновременно. Лежу, затерявшись в ночи, а где-то, с Саяно-Алтайской складчатой области уже скоро день. Идет вахта с востока на запад, вокруг шарика – точка за точкой. И всего-то в каждой точке – измерить аномалию магнитного поля, аномалию силы тяжести. На первый взгляд кропотливо, скучно. Но соединились точки – и вот уже Земля пульсирует в сетях – в магнитном поле, гравитационном, термальном.
И сколь бы не был искушен в своем деле, с волнением читаешь карту гравитационного поля при свете уходящего дня с бескрайними, плоско замершими за пыльным окном казахскими степями. Представляешь, что в этой плоской тиши, на многокилометровой глубине под тобой, с медлительностью, трудно представимой для краткого человеческого века идет развитие разломов, и по ним – заметьте себе, – вся земная кора погружается к югу.
Так и ощущаешь весь напряженный, выгибающийся, прогибающийся, разрывающийся в глубине организм Земли – с ядром, мантией и корой. И недвижная, такая прочная на взгляд и поверхностное знание, Земля, оказывается, дышит, погружается и вздымается.
Лежу на земле, раскинув руки, чуть прикрыв глаза, и клонится земля, покато накреняется. И в эти полудремотные мгновения, кажется, я один на один с Землей, как бы выпячен на самом выпуклом ее пятачке, лечу в пространстве, не зная отдельного дерева, дома, города, отмечающих мое местонахождение. Я знаю лишь, что я на Земле, выделен ею, и соответственно великодушен, снисходителен, широк и справедлив.
Но вот в тишине, и потому, кажется, совсем рядом – звякнули посудой. Легким ветерком принесло из столовой бранчливый говорок официанток, и тут же обозначилось рядом дерево, за ним – забор дома отдыха, вся дребедень ночных городских шумов, и, как огонек, бегущий по бикфордову шнуру, слабо и бегло осветило и выстроило дома, трамвайный путь, повороты улиц, суету, нетерпеливость. Быстро-быстро, Греческая площадь – взрыв, ослепление.
Не уйти от всего того, что вчера со мной на ней произошло. А огонек бежит дальше по шнуру, через годы, к Зеленому театру в городе студенческой моей юности.
Куда делась медлительность и широта, прочность в охват Земли. Весь я снова опутан, как рыба, сетью собственной памяти, которую ткал для собственного же уловления.
И вряд ли земля со мной, выпяченным поближе к звездам, может в этот миг перевесить то, что было на Греческой площади или тогда, у Зеленого театра.
II
Юность: увеличивающие стёкла
…В забвенной дымке, в облачном бреду
Шумит арык на расстоянье метра.
Русалки водят хоровод в саду,
Поют и плачут голосами ветра.
Но то ль душа наивно молода —
Не понимает будущей печали.
Озноб рассвета. Темная вода
Качает утлый катер на причале.
В бауле фрукты, хлеб, два дневника.
А гребни волн возносят расставанье.
О, как же удивительно легка
Таинственная зыбь существованья.
Над головой Ай-Петри, Роман-Кош
И Демерджи – толпятся, с небом споря.
Вокруг меня ветшает Ялта, сплошь
Курортниками шаркая вдоль моря.
Оркестров галопирующая прыть,
Так лихо синкопирующих Листа,
Девчонки, что еще не могут скрыть
Наивности своей и любопытства,
Мужчины, что с любым накоротке,
Не просыхают в пьяни беспробудной —
Всё замыкает в чуждом городке
Миг жизни,
Миг потерянности чудной…
Таится завтра за бурленьем вод,
Душа грустит и места не находит.
По трапу поднимусь на теплоход.
Отдав концы, навечно Крым отходит.
Винт режет воды, мощен и строптив,
Разматывая дни и расстоянья.
Я слышу ясно – в первый раз – мотив:
То с юностью навечно расставанье.
И когда настигла она меня, юность?
И совсем не тогда, когда над классом нависает хриплый клекот зоолога, рассказывающего о ястребах и орлах, а в партах идет напряженная жизнь, кипит невидимая суета. Пишут записочки, письма, послания, скребут перьями бумагу. Стреляют письмами, скатанными в катышек, из трубок, ревниво следят, чтобы развернул тот, кому послано.
Чуткое ухо улавливает мышиный шорох бумаги. А зоолог сидит вполоборота к классу, перекинув ногу на ногу, прикрыв лицо ладонью, но между пальцами блестит весь в морщинках его орлиный глаз. Внезапно, с легкостью, ошеломляющей для его грузности, роста и возраста, бросается между парт. Мыши разбегаются. В руках у него добыча: сложенная вчетверо бумажка. Лениво располагается на стуле, цепляет на нос очки, небрежно извлеченные из бокового кармана, те же хриплым голосом читает:
«Ты – мой идеал! Монтекристо», – смотрит на класс поверх очков и его передергивает, – Бр-р-р! Что с вами, уважаемые? На глазах портитесь. В прошлый-то раз хотя бы по-человечески: ты мне нравишься! А это что? Чушь, бредятина, шелуха книжная, фу-у… Не ожидал».
Захваченный врасплох, класс пять минут приходит в себя, испуганно слушая зоолога, как ни в чем не бывало продолжающего изображать хищных.
Но постепенно мыши снова выползают из нор. Это можно узнать по моей соседке Люде: начинает вертеть шеей. По-моему, она способна запросто повернуть ее вокруг оси. Дело в том, что она никак не может позволить себе пропустить нити связи, налаженные или только возникающие. Не знать интимных дел всех и каждого – сверх ее сил.
А в классе эпидемия посланий, эмоциональной активности. Можно представить себе нагрузку на ее шею. Недавно я и сам чуть не схлопотал по шее из-за нее. Два двоюродных брата Бори, сидящие на последней парте, безнадежно в нее влюблены. Но так как я сижу с ней и запросто беседую по праву абсолютно к ней равнодушного, братья сделали обратный вывод и уже второй раз присылают мне «ультематум», не смущаясь уровнем грамотности и не считая мужской беседы за углом школы.
Взрыв чувств, спортивная свирепость в желании перещеголять друг друга выражением их к особе слабого пола, эпистолярная лихорадка – всё это было скорее похоже на яростно вспыхивающую однодневную жизнь эфемер, о которых тоже повествовал нам зоолог. Да и мы сами могли видеть в долгий день лета на реке нашей внезапные хлопьевидные обвалы прозрачнокрылых эфемер. Они жестко стрекотали, сновали по водам на ломких ногах, устилая воду своими телами. Это была баснословная, свалившаяся с неба манна для рыб.
Это было повальное увлечение, быть может, инфантильное заболевание созревающих подростков обоих полов, предшествующее наступлению юности. Каждый считал себя просто ничего не стоящим, если не обзаводился адресатом и не имел возможности похвастаться получением ответа, каким бы тот ни был.
Слишком назойливым было рекламирование чувств, через полгода мучительно скрываемых. Слишком категоричными были требования: не меньше, чем «на всю жизнь». Слишком прямолинейными были тексты: «Ты мне нравишься», «Давай дружить на всю жизнь», «Я не могу без тебя», «Ты – мой идеал». Как будто мы пробовали на ощупь, на голос, на пропись, на сочетание слов, которые еще так гладко, красиво и легко произносились. Все упивались, пока можно, этой легкостью, инстинктивно чувствуя, что скоро за их произнесение придется платить сердцем, кровью и даже жизнью.
Были тексты, которые копировались, служа образцами. А два брата Бори даже писали – «Мы без тебя не можем». И всерьез обсуждали возможность дружить втроем на всю жизнь.
* * *
Когда же она настигла меня, юность?
Не в тот ли миг, когда, сидя рядом с Людой и списывая с доски, внезапно чувствую, что она смотрит на меня? И я так остро, до нытья в суставах, вижу себя ее глазами: худые бледные руки в чернильных пятнах, потные волосы после возни на перемене, неказистая рубаха, которую мама сшила из своего старого платья, а под рубахой длинное мальчишеское тело и слабая грудь. Вижу, и чувствую, как холодею, хотя щеки горят, и я готов провалиться сквозь землю.
Или скорее в те несколько минут, когда после уроков обнаруживаю на полдороги, что нет в сумке учебника по физике, бегу обратно в школу, и застываю на пороге класса. Жду, пока дочь уборщицы Таня, девица лет шестнадцати, часто помогающая своей матери, вымоет полы.