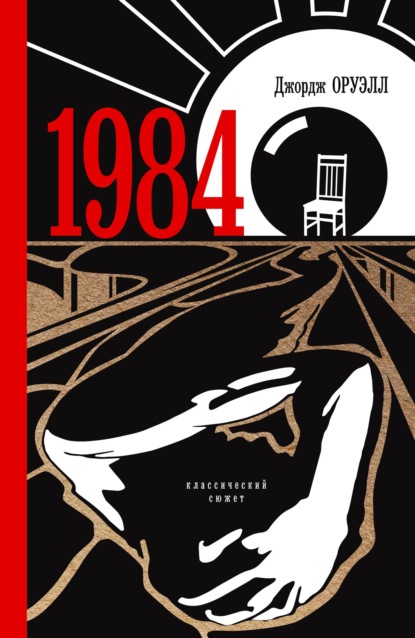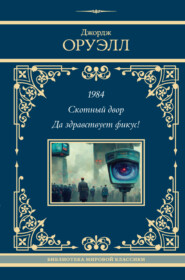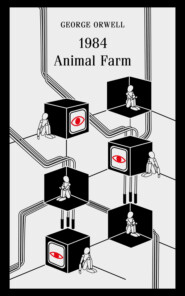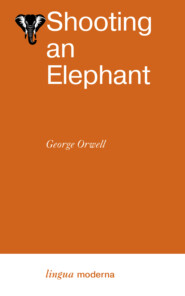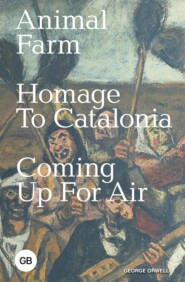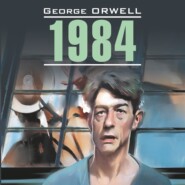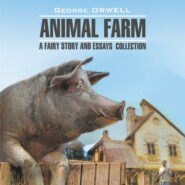По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
1984
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1984
Джордж Оруэлл
Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века – «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда «общество потребления» – или доведенное до абсолюта «общество идеи»?
По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы…
Джордж Оруэлл
1984
Часть Первая
Глава 1
Был солнечный холодный апрельский день; часы пробили тринадцать. Уинстон Смит, прижав подбородок к груди, чтобы спастись от мерзкого ветра, хотя и быстро проскользнул через стеклянные двери жилого комплекса «Победа», но все же впустил внутрь вихрь острых пылинок.
Вестибюль встретил его запахами вареной капусты и старых половиков. На стене висел яркий плакат, слишком большой для помещения. На нем – огромное лицо, больше метра в ширину, лицо мужчины лет сорока пяти, с густыми черными усами и грубыми, но по-мужски привлекательными чертами. Уинстон направился к лестнице. К лифту идти смысла не было. Даже в лучшие времена он работал редко, а сейчас электричество в дневные часы и вовсе отключали. В рамках режима экономии при подготовке к Неделе ненависти. Уинстону предстояло преодолеть семь лестничных пролетов. Ему было тридцать девять лет, он имел варикозную язву над правой лодыжкой, а потому поднимался медленно, часто останавливаясь передохнуть. На каждой площадке, со стены напротив лифта, на него глядело все то же огромное лицо. Один из таких портретов, глаза на которых, кажется, преследуют тебя, куда бы ты ни отправился. «БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ», – предупреждала надпись под изображением.
В квартире приторный голос зачитывал цифры, связанные с производством чугуна в болванках. Голос исходил из вделанного в правую стену продолговатого металлического диска, напоминающего мутное зеркало. Уинстон покрутил выключатель, и голос немного затих, но слова все равно звучали отчетливо. Устройство (его называли «телеэкран») можно было приглушить, но полностью выключить – никак. Он подошел к окну – маленький, щуплый человек, чью худобу подчеркивал синий комбинезон, являющийся униформой партийца. У него были очень светлые волосы, а его румяное от природы лицо шелушилось от плохого мыла, тупых бритвенных лезвий и холода только что закончившейся зимы.
Мир снаружи – и это чувствовалось даже через закрытое окно – веял холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и гнал по улице обрывки бумаги; несмотря на то, что ярко светило солнце и резко голубело небо, город казался каким-то бесцветным, за исключением плакатов, развешенных повсюду. Лицо черноусого мужчины смотрело на тебя с каждого заметного угла. И из дома напротив тоже. «БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ», – гласила надпись, а темные глаза настойчиво глядели прямо в глаза Уинстона. Внизу, над тротуаром, еще один плакат, оторвавшийся с одной стороны, судорожно хлопал на ветру, то открывая, то закрывая одно-единственное слово: «АНГСОЦ». Где-то далеко, между крышами, скользнул вниз вертолет, завис на мгновение, словно синяя падальная муха, затем снова взмыл вверх и унесся вдаль. Это полицейский патруль, заглядывающий в окна домов. Но патруль не имел особого значения. Только Полиция мыслей имела значение.
Голос за спиной Уинстона, исходивший от телеэкрана, все еще бормотал что-то о чугунных болванках и перевыполнении плана Девятой Трехлетки. Устройство работало одновременно и на передачу, и на прием. Оно улавливало любой звук, произведенный Уинстоном, кроме очень тихого шепота; более того, оставаясь в поле зрения пластины мутного металла, человек был не только слышим, но и виден. Узнать, следят ли за тобой в данный момент, было совершенно невозможно. Оставалось лишь гадать, как часто и по какому графику Полиция мыслей подключалась к тому или иному индивидууму. Быть может, она постоянно следила за каждым. В любом случае, за тобой наблюдали всякий раз, когда хотели. Приходилось жить – и ты жил по привычке, ставшей инстинктом, – предполагая, что каждое твое слово слышат, а каждое движение (когда ты не в полной темноте) видят.
Уинстон держался к экрану спиной. Вроде бы так безопаснее, хотя он хорошо знал, что и спина может выдавать мысли. В километре отсюда располагалась Министерство правды, где он работал. Огромное белое здание доминировало на фоне мрачного пейзажа. Вот он, Лондон, подумал Уинстон с неким смутным отвращением, главный город Взлетной полосы I – третьей по численности населения провинции Океании. Он попытался вспомнить, был ли Лондон таким всегда, например, во времена его детства. Всегда ли вдоль его улиц тянулись вереницы ветхих домишек постройки девятнадцатого века – подпертых бревнами, с окнами, закрытыми картоном, с проржавевшими крышами, с будто пьяными, качающимися во все стороны оградами вокруг садиков? А эти пустоты от бомбежек, где до сих пор кружит алебастровая пыль и кипрей взбирается по грудам мусора; а большие пустыри, которые бомбы словно расчистили для убогих колоний деревянных домишек, похожих на курятники? Все тщетно, он не мог вспомнить: от его детства не осталось ничего, кроме каких-то ярких вспышек, лишенных фона и по большей части неразборчивых.
Министерство правды – Минправ на новодиалекте [новодиалект являлся официальным языком Океании. Информация о его структуре и этимологии содержится в Приложении] – разительно отличалось от других сооружений, находящихся в поле зрения. Оно представляло собой громадную пирамидальную конструкцию из сверкающего белого бетона, террасы которого поднимались вверх на 300 метров и будто парили в воздухе. С того места, где стоял Уинстон, на белом фасаде были видны элегантные буквы, складывающиеся в три лозунга Партии:
Война – это мир
Свобода – это рабство
Незнание – сила
Говорили, что Министерство правды заключает в себе три тысячи кабинетов над уровнем земли и примерно столько же под ним. В разных частях Лондона было всего еще три здания, подобных этому по внешнему виду и размерам. Они так значительно доминировали над другими архитектурными объектами, что с крыши жилого комплекса «Победа» можно было видеть все четыре сооружения разом. В них помещались четыре министерства, которые и составляли весь правительственный аппарат. Министерство правды занималось информацией, досугом, образованием и искусствами. Министерство мира занималось войной. Министерство любви поддерживало общественный порядок. А Министерство изобилия отвечало за экономические вопросы. На новодиалекте их называли Минправ, Минмир, Минлюб и Минизо.
Министерство любви на самом деле внушало страх. Уинстон никогда не был в Министерстве любви, даже на расстояние в полкилометра к нему не приближался. В это здание нельзя было попасть иначе, как по официальному делу, да и в этом случае приходилось преодолевать лабиринты сплетений колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных расчетов. Даже улицы, ведущие к внешнему кольцу ограждения Министерства, патрулировались охранниками в черной форме, имеющими лица горилл и вооруженными складными дубинками.
Уинстон резко обернулся. Он придал своему лицу выражение спокойного оптимизма, которое более всего подходило для того, чтобы смотреть на телеэкран. Пройдя через комнату, он вошел в крохотную кухоньку. Покинув Министерство в это время дня, он пожертвовал обедом в столовой, зная, что никакой еды в кухне не было, за исключением куска черного хлеба, который нужно было приберечь на завтрашнее утро. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простенькой белой этикеткой, на которой было написано: «Джин Победа». Напиток издавал противный маслянистый запах, как китайская рисовая водка. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с силами и выпил залпом, словно лекарство.
Лицо его тут же сделалось красным, а из глаз потекли слезы. Содержимое бутылки по вкусу напоминало азотную кислоту; более того, проглотив жидкость, ты чувствовал себя так, будто тебя треснули по затылку резиновой дубинкой. Однако уже через секунду ощущение жжения в желудке стихло, а окружающий мир стал казаться чуточку ярче. Из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа» он достал одну сигарету, но по рассеянности держал ее вертикально, и табак высыпался на пол. Со следующей ему повезло больше. Он вернулся в гостиную и сел за маленький столик, стоявший слева от телеэкрана. Из ящика стола он вытащил ручку, бутылку чернил и толстый, в ? листа чистый блокнот с красным переплетом и обложкой из мрамора.
По какой-то причине телеэкран в гостиной был установлен не совсем стандартно. Вместо того чтобы, как это было принято, помещаться на торцевой стене, откуда просматривалась вся комната, он находился на длинной стене, напротив окна. Сбоку от него располагалась небольшая ниша, где сейчас сидел Уинстон и которая, видимо, по замыслу строителей, предназначалась для книжных полок. Сидя в этой нише и отклонившись назад, Уинстон был практически за пределами поля зрения телеэкрана, то есть невидимым. Конечно, его слышали, но, оставаясь в таком положении, он становился незаметным. Возможно, необычная планировка комнаты, натолкнула его на мысль заняться тем, чем он сейчас собирался заняться. Но этому также способствовала и книга с мраморной обложкой, которую он вытащил из ящика стола. Она отличалась невероятной красотой. Ее гладкие, кремового цвета страницы, чуть пожелтевшие от времени, были сделаны по меньшей мере сорок лет назад. Однако он догадывался, что книга намного древнее. Он увидел ее в витрине убогой лавчонки старьевщика где-то в трущобном квартале города (он уже и не помнил, где именно), и его сразу же охватило неодолимое желание владеть этой вещью. Вообще-то членам Партии не полагалось ходить в обычные магазины (работающие, как это называлось, «на свободном рынке»), но правило соблюдалось не особенно строго, потому что иначе было бы невозможно достать целый ряд необходимых вещей, таких как шнурки или бритвенные лезвия. Он тогда быстро огляделся по сторонам, затем проскользнул внутрь магазина и купил книгу за два доллара пятьдесят. Тогда он не знал, для чего именно хотел иметь ее. Он воровато принес ее домой в портфеле. Обладание такой вещью, пусть даже с пустыми страницами, компрометировало его.
Сейчас он собирался начать вести дневник. Это не было противозаконным (ничего не считалось противозаконным, так больше не существовало самих законов), но если бы дневник обнаружили, что его владельца наверняка ожидала бы смерть или не менее двадцати пяти лет принудительных работ в трудовом лагере. Уинстон приладил к ручке перо и облизнул его, чтобы удалить смазку. Ручка являлась архаичным инструментом, ее редко использовали даже для подписей, и Уинстону пришлось потрудиться, чтобы раздобыть эту: прекрасная кремовая бумага, как он думал, заслуживает того, чтобы на ней писали настоящим пером, а не карябали каким-то чернильным карандашом. На самом деле он не привык писать рукой. Все, кроме коротеньких заметок, он обычно наговаривал на диктопис, но для этой цели прибор совершенно не годился. Уинстон окунул ручку в чернила и замешкался на секунду. Где-то внутри все задрожало. Коснуться пером бумаги – уже смелый поступок. Он вывел маленькими корявыми буквами:
4 апреля 1984 года.
Он уселся еще поглубже. Его охватило чувство абсолютной беспомощности. Начнем с того, что он точно не знал, был ли сейчас 1984 год. Должно быть, около того, поскольку он совершенно уверен, что ему тридцать девять, и он считал, что родился в 1944 или в 1945. Но сегодня установить дату с точностью более чем один-два года не представлялось возможным.
Ему вдруг пришло в голову, что он не знает, для кого пишет дневник. Для будущих поколений, для тех, кто еще не родился. Его мысли немного покружили над сомнительной датой, написанной на странице, а затем вдруг уперлись в новодиалектное слово двоемыслие. Он впервые осознал размах поставленной перед собой задачи. Способен ли он общаться с будущим? Невозможность этого заключена в самой природе. Будь завтра похожим на сегодня, его не станут слушать; а если оно будет другим, то нынешние проблемы покажутся там бессмысленными.
В течение некоторого времени он сидел, тупо уставившись на лист бумаги. Между тем телеэкран переключился на резкую военную музыку. Странно, но, похоже, он не просто утратил способность выражать свои мысли, а к тому же забыл, что же именно намеревался сказать. Многие недели он готовился к этому моменту, и ему ни разу не пришло в голову, что здесь ему потребуется что-то еще кроме смелости. Сам по себе процесс написания казался легким. Нужно было только перенести на бумагу тот бесконечный тревожный монолог, который годы и годы в буквальном смысле слова звучал в голове. А сейчас он вдруг прекратился. Кроме того, варикозная язва начала невыносимо зудеть. Он не решался почесать ногу, потому что это всегда вело к воспалению. Тикали секунды. Он не ощущал ничего, кроме пустоты листа бумаги перед ним, зуда кожи над лодыжкой, орущей музыки и легкого опьянения после выпитого джина.
Вдруг он начал панически писать, едва ли понимая, что выводит перо. Строки мелкого детского почерка ползли то вверх, то вниз по странице, теряя сначала заглавные буквы, а потом и точки:
4 апреля 1984 года. Вчера вечером в кино. Только военные фильмы. Один очень хороший о том, как пароход, набитый беженцами, бомбят где-то в Средиземном море. Публику очень развлекли сцены с высоким толстым мужчиной, он плывет, а над ним кружит вертолет, сначала он бултыхается в воде, как бурый дельфин, а затем мы видим его сквозь прицел вертолетного орудия, он весь продырявлен, а море вокруг него окрасилось в розовый цвет, и вдруг он камнем идет на дно, будто набрал воды через дыры, публика взрывается хохотом,когда он тонет. потом вы видите спасательную шлюпку с детьми, и над ней кружит вертолет. там была женщина средних лет, быть может, еврейка, с маленьким мальчиком лет трех на руках. мальчик кричит от страха и прячет голову у нее на груди точно хочет зарыться в нее и женщина обнимает его руками и утешает его хотя сама уже посинела от ужаса, она все время старается закрыть его собой получше, будто руками можно защитить от пуль. потом вертолет сбрасывает на них двадцатикилограммовую бомбу ужасный взрыв и лодка разлетается в щепки. потом прекрасный кадр детская рука летит вверх все выше и выше прямо в небо должно быть снимали камерой на носу вертолета и из партийных рядов раздались аплодисменты но какая-то женщина оттуда где сидели пролы вдруг подняла шум и начала кричать что это нельзя показывать детям что никуда не годится показывать это детям но появилась полиция и вывела ее и я не думаю что ей что-то будет никто не обращает внимания на то что говорят пролы типичная реакция пролов они никогда…
Уинстон остановился, отчасти потому, что затекла рука. Он не знал, зачем он выплеснул на бумагу всю эту ерунду. Но интересно, что пока он занимался этим, в его памяти вдруг всплыло нечто совсем иное, причем так ясно, что хотелось записать это прямо сейчас. Он понял, что именно из-за этого происшествия он и принял внезапное решение уйти домой и приступить к дневнику сегодня.
Это случилось утром в Министерстве, если слово «случилось» можно употребить в отношении такой неясной ситуации.
Было почти одиннадцать ноль-ноль, и работники Департамента документации, где трудился Уинстон, выносили стулья из секций-кабинетиков и ставили их в центре перед большим телеэкраном, готовясь к Двухминутке Ненависти. Уинстон как раз собирался занять свое место в средних рядах, когда в помещение неожиданно вошли еще два человека, которые внешне были ему знакомы, хотя он никогда с ними не разговаривал. Одним из них была девушка, он часто встречал ее в коридорах. Имени ее он не знал, но знал, что она работает в Департаменте художественной литературы. Поскольку он, как правило, видел ее с замасленными руками и гаечным ключом, она, видно, занималась техническим обслуживанием одной из машин для написания романов. Девице самоуверенного вида было лет двадцать семь, она имела густые волосы, веснушчатое лицо и двигалась по-спортивному быстро. Узкий алый пояс – эмблема Молодежной Антисекс-лиги, – несколько раз туго обернутый вокруг талии поверх рабочей одежды, подчеркивал стройные бедра. Уинстон невзлюбил ее с того самого момента, как они впервые встретились. И он знал, почему. Из-за того, что от нее исходил дух хоккейных полей, купаний в холодной воде, туристских походов и некой общей незамутненности сознания. Он не любил почти всех женщин, особенно молоденьких и хорошеньких. Именно женщины, а более всего молодые, являлись фанатичными сторонниками Партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и теми, кто вынюхивал ересь. А эта конкретная девица, по его ощущениям, была еще опаснее других. Однажды проходя мимо по коридору, она бросила на него быстрый косой взгляд, который будто пронзил его насквозь – и его на мгновенье наполнил черный страх. Он подумал вдруг, что она, наверное, агент Полиции мыслей. Да нет, на самом деле маловероятно. Однако всякий раз, когда она оказывалась рядом, он продолжал испытывать странную неловкость, смешанную со страхом и враждебностью.
Другим человеком был мужчина по имени О’Брайен, член Внутренней партии, занимавший такой важный и удаленный пост, что Уинстон мог иметь лишь смутные догадки о его сути. Увидев черный комбинезон представителя Внутренней партии, группа людей, сидевшая на стульях, затихла. О’Брайен был крупным, сильным мужчиной с толстой шеей и грубым насмешливым лицом. Несмотря на устрашающую внешность, в его манерах чувствовалось и некоторое обаяние. Он имел привычку поправлять очки на носу, и в этом жесте было что-то странным образом обезоруживающее, что-то вроде указания на хорошее воспитание. Этот жест напоминал (если кто-то мог бы мыслить такими категориями) дворянина восемнадцатого века, который предлагает свою табакерку. За почти десять лет Уинстон видел О’Брайена, наверное, дюжину раз. Тот неизменно притягивал его – и не только потому что Уинстона озадачивал контраст между хорошими манерами О’Брайена и телосложением профессионального боксера. Более всего это шло от веры в глубине души – может, даже и не веры, а просто надежды, – что политическая ортодоксальность О’Брайена не является безупречной. Что-то в его лице неумолимо говорило об этом. Но, может быть, на его лице отражались не сомнения в догмах, а просто ум. Однако в любом случае у него был вид человека, с которым можно поговорить, спрятавшись от телеэкрана, наедине. Уинстон никогда не предпринимал даже малейшей попытки проверить свою догадку: да у него и не было возможности сделать это. Сейчас О’Брайен взглянул на наручные часы и, увидев, что уже почти одиннадцать, решил остаться на Двухминутку Ненависти в Департаменте документации. Он занял место в том же ряду, где сидел Уинстон – через два стула от него. Между ними расположилась невысокая рыжеволосая женщина, работавшая в соседней с Уинстоном секции. Девица с темными волосами сидела прямо за ним.
Буквально через секунду из большого телеэкрана, висевшего в торце комнаты, раздался отвратительный резкий скрежет, будто начала работать какая-то чудовищная машина без смазки. От этого звука ломило зубы, а волосы вставали дыбом. Ненависть началась.
На экране, как обычно, появилось лицо Эммануэля Гольдштейна – врага народа. Публика зашевелилась и зашикала. Маленькая рыжеволосая женщина завизжала от страха и отвращения. Гольдштейн являлся ренегатом и отступником, который когда-то, давным-давно (так давно, что об этом уже никто и не помнил), был одним из высших руководителей Партии, почти равным самому Большому Брату, а затем он начал контрреволюционную деятельность и, будучи приговоренным к смертной казни, таинственным образом бежал и исчез. Программы Двухминуток Ненависти каждый день менялись, но Гольдштейн неизменно оставался в них главным действующим лицом. Он считался первым предателем, тем, кто раньше других осмелился осквернить чистоту Партии. Все последующие преступления против Партии, все измены, акты саботажа, проявления ереси и отклонений уходили своими корнями исключительно в его учение. Так или иначе, но он все еще был жив и вынашивал заговоры: возможно, где-то за морем, находясь под защитой своих иностранных хозяев, а может быть, даже – иной раз возникали и такие слухи – в подполье в самой Океании.
Уинстон начал задыхаться. Вид Гольдштейна всегда вызывал у него болезненную смесь эмоций. Худое еврейское лицо в пушистом ореоле седых волос, небольшая козлиная бородка – умное лицо, в котором в то же время чувствовалось что-то необъяснимо отталкивающее, а длинный тонкий нос с очками, съехавшими на самый кончик, вызывал мысли о старости и дряхлости. Внешний вид его напоминал овцу, и в голосе его тоже слышалось овечье блеяние. Гольдштейн, как обычно, злобно нападал на доктрины Партии; и речь его была столь несуразная и вздорная, что ей не поверил бы и ребенок, однако она не была совсем лишена правдоподобия и вызывала у слушателя тревогу, что другие люди, менее рассудительные, чем он сам, могут поддаться ее воздействию. Он оскорблял Большого Брата, он обличал диктатуру Партии, он требовал немедленного заключения мира с Евразией, он защищал свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мыслей, он истерично кричал, что революцию предали – и все это сложной скороговоркой, напоминавшей пародию на привычный стиль партийных ораторов и даже содержавшей слова новодиалекта, которые в действительности встречались в его речи чаще, чем у любого партийца в обычной жизни. И во время его речи, чтобы не было ни малейших сомнений в лицемерном вздоре Гольдштейна, за его спиной маршировали бесчисленные колонны евразийских солдат – шеренга за шеренгой крепкие мужчины с бесстрастными азиатскими лицами появлялись на экране и исчезали, сменяясь другими, в точности похожими на них. Ритмичный топот солдатских сапог сопровождал блеяние Гольдштейна.
Прошло не более тридцати секунд Ненависти, а добрую половину людей в помещении уже охватил гнев. Самоуверенное овечье лицо на экране, устрашающая сила Евразийской армии за ним – все это было уже слишком; а кроме того, один вид Гольдштейна непроизвольно вызывал страх и ярость. Этого человека ненавидели больше, чем Евразию или Истазию, поскольку, когда Океания находилась в состоянии войны с одной из этих держав, с другой она обычно заключала мир. Но вот что удивительно: несмотря на то, что Гольдштейна ненавидели и презирали, несмотря на то, что каждодневно и тысячу раз на дню на платформах, телеэкранах, в газетах и книгах опровергали, громили и высмеивали его жалкие теории, несмотря на все это, его влияние, казалось, никогда не ослабевало. Все новые и новые простофили будто ожидали, дабы он их одурачил. И дня не проходило без того, чтобы Полиция мыслей не разоблачала действующих по его указке шпионов и вредителей. Он командовал большой теневой армией и подпольной сетью заговорщиков, поставивших себе целью свержение государственного строя. Вроде бы они именовали себя Братством. Шептались также о страшной книге – собрании всех ересей, автором которой считался Гольдштейн и которая нелегально появлялась то здесь, то там. Названия у нее не было. А если люди вдруг и говорили о ней, то называли ее просто КНИГА. Но все это было известно только благодаря неясным слухам. Простые члены Партии старались, если это было возможным, не упоминать ни о Братстве, ни о Книге.
На второй минуте Ненависть достигла бешенства. Люди раскачивались на стульях и кричали изо всех сил, пытаясь заглушить ненавистный блеющий голос, доносящийся из телеэкрана. Маленькая рыжеволосая женщина раскраснелась и открывала и закрывала рот, словно рыба, вытащенная из воды. Даже грубое лицо О’Брайена побагровело. Он, выпрямившись, сидел на стуле, а его мощная грудная клетка вздымалась и содрогалась, словно в нее били волны прибоя. Темноволосая девица за спиной Уинстона начала выкрикивать: «Свинья! Свинья! Свинья!» – а затем вдруг схватила тяжелый словарь новодиалекта и швырнула его в экран. Угодив в нос Гольдштейна, книга отскочила от телеустройства; голос же продолжал вещать. В момент просветления Уинстон обнаружил, что кричит вместе со всеми и яростно пинает пяткой перекладину стула. Самое ужасное в Двухминутке Ненависти заключалось в том, что тебе не нужно было играть роль, напротив, ты просто не мог остаться в стороне. Проходило всего лишь тридцать секунд – и притворство теряло смысл. Невероятный экстаз страха и жажда мести, желание убивать, мучить, плющить лица кувалдой, казалось, распространялись в группе людей, словно электрический ток, превращая каждого даже против его воли в визжащего безумца, стоящего гримасы. Ярость, ощущаемая человеком, носила абстрактный характер, а не имевшие цели чувства можно было обратить на любой нужный объект, как пламя паяльной лампы. Так, в какой-то момент получалось, что ненависть Уинстона направлена не на Гольдштейна, а, наоборот, на Большого Брата, на Партию и Полицию мыслей; в такие минуты его сердце тянулось к одинокому, осмеянному еретику на экране, единственному защитнику правды и здравомыслия в мире лжи. Однако через секунду он был уже заодно с окружавшими его людьми и видел правду в том, что говорят о Гольдштейне. Тогда мгновенья тайного отвращения к Большому Брату сменялись обожанием, и Большой Брат, казалось, возносился над ним – непобедимый, бесстрашный защитник, стоявший, как скала, на пути азиатских орд, а Гольдштейн, несмотря на его изоляцию, беспомощность и сомнения в самом его существовании становился каким-то злодеем-волшебником, способным просто силой своего голоса сокрушить здание цивилизации.
Иной раз было даже возможно усилием воли переключить свою ненависть на тот или иной предмет. Внезапно с помощью невероятного напряжения, подобного тому, когда тебе удается во время ночного кошмара оторвать голову от подушки, Уинстону удалось перенести свою ненависть с лица на экране на темноволосую девицу за спиной. И в его голове замелькали живые и прекрасные картины. Вот он насмерть забивает ее резиновой дубинкой. Вот он привязывает ее, голую, к столбу, и почти сразу все тело ее истыкано стрелами, как у Святого Себастьяна. Вот он насилует ее и перерезает ей горло в тот самый момент. Сейчас яснее, чем прежде, он понимал, ПОЧЕМУ так ненавидит ее. Потому что она молодая, красивая и бесполая, потому что он хочет спать с ней, а этого никогда не случится, потому что на ее прекрасной гибкой талии, словно созданной для объятий, не его рука, а этот мерзкий алый пояс – агрессивный символ девственности.
Ненависть достигла своего апогея. Голос Гольдштейна теперь уже превратился в самое настоящее блеяние, а лицо его на мгновенье сменилось мордой овцы. Затем оно трансформировалось в фигуру евразийского солдата, который, громадный и страшный, шел прямо на публику, стреляя из автомата. Казалось, он сейчас выпрыгнет из экрана, а потому некоторые из сидящих на передних рядах на самом деле отпрянули назад. Но тут же последовал вздох облегчения: вражеский солдат растворился, и его заслонило изображение Большого Брата – черноволосого, с темными же усами, человека, от которого исходили сила и таинственное спокойствие; лицо его заполнило почти весь экран. Никто не слышал, о чем именно говорил Большой Брат. Просто несколько слов ободрения, вроде тех, что говорят во время битвы – неважно, что смысла не разобрать, уверенность вселяет сам факт их произнесения. Затем лицо Большого Брата потускнело, и выступили три лозунга Партии, написанных четкими заглавными буквами:
Война – это мир
Свобода – это рабство
Незнание – сила
Однако Большой Брат еще несколько секунд оставался на экране, словно воздействие его на глаза зрителей было столь ярким, что он не мог исчезнуть сразу же, немедленно. Маленькая рыжеволосая женщина упала на спинку стула, стоявшего перед ней. Она простерла свои руки к экрану и робко пробормотала что-то вроде: «Спаситель мой!» Затем она закрыла лицо руками. Видимо, читала молитву.
В этот момент все присутствующие начали громко и ритмично скандировать: «Бэ-бэ!.. Бэ-бэ!» – снова и снова, очень медленно, делая долгую паузу между первым «Бэ» и вторым; это был рокочущий, какой-то странный первобытным звук, в котором слышался топот босых ног и бой тамтамов. Песнопение длилось, наверное, с полминуты. Его часто можно было услышать в те моменты, когда людей переполняли эмоции. Отчасти оно представляло собой гимн мудрости и величию Большого Брата, а еще более оно напоминало некий самогипноз – намеренное отключение сознания посредством ритмичного звука. Уинстон ощутил холодок в животе. Во время Двухминутки Ненависти он не мог не поддаться общему исступлению, но это дикарское песнопение:
«Бэ-бэ!.. Бэ-бэ!» – всегда леденило его душу. Конечно, он скандировал с остальными – иначе никак. Скрывать свои чувства, контролировать выражение лица, делать то же, что и другие – все это давно стало для него инстинктом. Однако существовал и небольшой промежуток – пара секунд, – во время которого глаза могли выдать его. И вот именно в этот момент случилось нечто значительное, если, конечно, оно случилось.
Он вдруг посмотрел на О’Брайена. О’Брайен встал. Он снимал очки, и сейчас, надев их, сделал характерный жест, поправляя их. Их взгляды встретились всего лишь на долю секунды, но Уинстону было достаточно этого времени, чтобы знать (да, знать!): О’Брайен думает о том же, что и он сам. Безошибочное послание. Будто два разума раскрылись, и мысли невидимым потоком перетекли из одной головы в другую через глаза. Казалось, О’Брайен говорит ему: «Я с тобой. Я точно знаю, что ты чувствуешь. Я знаю о твоем презрении, ненависти, отвращении. Не тревожься. Я на твоей стороне!» Затем вспышка разума погасла, и О’Брайен придал своему лицу такое же непроницаемое выражение, как у всех.
Вот и все, он уже и не знал, было ли это. Такие случаи никогда не имели продолжения. Они давали лишь одно: поддерживали в нем веру или надежду, что у Партии есть еще другие враги – кроме него. Возможно, слухи о крупных подпольных заговорах все же были верны, быть может, Братство на самом деле существует! Несмотря на бесконечные аресты, признания и казни, нельзя было с уверенностью утверждать, что Братство – это не просто миф. Иной раз он верил в него, а иной раз – нет. Доказательства отсутствовали, были только быстрые взгляды, которые равным образом могли что-то значить или не значить ничего, обрывки подслушанных разговоров, едва заметные надписи на стенах туалета; а однажды он видел, как при встрече двое сделали слабое движение рукой – быть может, какой-то приветственный жест узнавания. Только догадки: возможно, он просто все это придумал. Возвращаясь в свою секцию-кабинет, он больше не смотрел на О’Брайена. Ему даже в голову не приходило как-то закрепить мимолетный контакт. Даже если бы он знал, как к этому подойти, это было бы невероятно опасно. За одну-две секунды они успели обменяться красноречивыми взглядами, но на этом история закончилась. Но она все равно была запоминающимся событием для того, кто принужден жить в пустом одиночестве.
Уинстон очнулся и выпрямился. Он рыгнул. Это джин поднимался из глубины желудка.
Он снова сфокусировал взгляд на бумаге. Оказывается, пока он предавался невольным размышлениям, его рука продолжала писать – автоматически. И уже не прежние неуклюжие каракули. Сладострастно скользя по гладкой бумаге, перо выводило аккуратными печатными заглавными буквами: «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА», – снова и снова, заполнив уже половину страницы.
Джордж Оруэлл
Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века – «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда «общество потребления» – или доведенное до абсолюта «общество идеи»?
По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы…
Джордж Оруэлл
1984
Часть Первая
Глава 1
Был солнечный холодный апрельский день; часы пробили тринадцать. Уинстон Смит, прижав подбородок к груди, чтобы спастись от мерзкого ветра, хотя и быстро проскользнул через стеклянные двери жилого комплекса «Победа», но все же впустил внутрь вихрь острых пылинок.
Вестибюль встретил его запахами вареной капусты и старых половиков. На стене висел яркий плакат, слишком большой для помещения. На нем – огромное лицо, больше метра в ширину, лицо мужчины лет сорока пяти, с густыми черными усами и грубыми, но по-мужски привлекательными чертами. Уинстон направился к лестнице. К лифту идти смысла не было. Даже в лучшие времена он работал редко, а сейчас электричество в дневные часы и вовсе отключали. В рамках режима экономии при подготовке к Неделе ненависти. Уинстону предстояло преодолеть семь лестничных пролетов. Ему было тридцать девять лет, он имел варикозную язву над правой лодыжкой, а потому поднимался медленно, часто останавливаясь передохнуть. На каждой площадке, со стены напротив лифта, на него глядело все то же огромное лицо. Один из таких портретов, глаза на которых, кажется, преследуют тебя, куда бы ты ни отправился. «БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ», – предупреждала надпись под изображением.
В квартире приторный голос зачитывал цифры, связанные с производством чугуна в болванках. Голос исходил из вделанного в правую стену продолговатого металлического диска, напоминающего мутное зеркало. Уинстон покрутил выключатель, и голос немного затих, но слова все равно звучали отчетливо. Устройство (его называли «телеэкран») можно было приглушить, но полностью выключить – никак. Он подошел к окну – маленький, щуплый человек, чью худобу подчеркивал синий комбинезон, являющийся униформой партийца. У него были очень светлые волосы, а его румяное от природы лицо шелушилось от плохого мыла, тупых бритвенных лезвий и холода только что закончившейся зимы.
Мир снаружи – и это чувствовалось даже через закрытое окно – веял холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и гнал по улице обрывки бумаги; несмотря на то, что ярко светило солнце и резко голубело небо, город казался каким-то бесцветным, за исключением плакатов, развешенных повсюду. Лицо черноусого мужчины смотрело на тебя с каждого заметного угла. И из дома напротив тоже. «БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ», – гласила надпись, а темные глаза настойчиво глядели прямо в глаза Уинстона. Внизу, над тротуаром, еще один плакат, оторвавшийся с одной стороны, судорожно хлопал на ветру, то открывая, то закрывая одно-единственное слово: «АНГСОЦ». Где-то далеко, между крышами, скользнул вниз вертолет, завис на мгновение, словно синяя падальная муха, затем снова взмыл вверх и унесся вдаль. Это полицейский патруль, заглядывающий в окна домов. Но патруль не имел особого значения. Только Полиция мыслей имела значение.
Голос за спиной Уинстона, исходивший от телеэкрана, все еще бормотал что-то о чугунных болванках и перевыполнении плана Девятой Трехлетки. Устройство работало одновременно и на передачу, и на прием. Оно улавливало любой звук, произведенный Уинстоном, кроме очень тихого шепота; более того, оставаясь в поле зрения пластины мутного металла, человек был не только слышим, но и виден. Узнать, следят ли за тобой в данный момент, было совершенно невозможно. Оставалось лишь гадать, как часто и по какому графику Полиция мыслей подключалась к тому или иному индивидууму. Быть может, она постоянно следила за каждым. В любом случае, за тобой наблюдали всякий раз, когда хотели. Приходилось жить – и ты жил по привычке, ставшей инстинктом, – предполагая, что каждое твое слово слышат, а каждое движение (когда ты не в полной темноте) видят.
Уинстон держался к экрану спиной. Вроде бы так безопаснее, хотя он хорошо знал, что и спина может выдавать мысли. В километре отсюда располагалась Министерство правды, где он работал. Огромное белое здание доминировало на фоне мрачного пейзажа. Вот он, Лондон, подумал Уинстон с неким смутным отвращением, главный город Взлетной полосы I – третьей по численности населения провинции Океании. Он попытался вспомнить, был ли Лондон таким всегда, например, во времена его детства. Всегда ли вдоль его улиц тянулись вереницы ветхих домишек постройки девятнадцатого века – подпертых бревнами, с окнами, закрытыми картоном, с проржавевшими крышами, с будто пьяными, качающимися во все стороны оградами вокруг садиков? А эти пустоты от бомбежек, где до сих пор кружит алебастровая пыль и кипрей взбирается по грудам мусора; а большие пустыри, которые бомбы словно расчистили для убогих колоний деревянных домишек, похожих на курятники? Все тщетно, он не мог вспомнить: от его детства не осталось ничего, кроме каких-то ярких вспышек, лишенных фона и по большей части неразборчивых.
Министерство правды – Минправ на новодиалекте [новодиалект являлся официальным языком Океании. Информация о его структуре и этимологии содержится в Приложении] – разительно отличалось от других сооружений, находящихся в поле зрения. Оно представляло собой громадную пирамидальную конструкцию из сверкающего белого бетона, террасы которого поднимались вверх на 300 метров и будто парили в воздухе. С того места, где стоял Уинстон, на белом фасаде были видны элегантные буквы, складывающиеся в три лозунга Партии:
Война – это мир
Свобода – это рабство
Незнание – сила
Говорили, что Министерство правды заключает в себе три тысячи кабинетов над уровнем земли и примерно столько же под ним. В разных частях Лондона было всего еще три здания, подобных этому по внешнему виду и размерам. Они так значительно доминировали над другими архитектурными объектами, что с крыши жилого комплекса «Победа» можно было видеть все четыре сооружения разом. В них помещались четыре министерства, которые и составляли весь правительственный аппарат. Министерство правды занималось информацией, досугом, образованием и искусствами. Министерство мира занималось войной. Министерство любви поддерживало общественный порядок. А Министерство изобилия отвечало за экономические вопросы. На новодиалекте их называли Минправ, Минмир, Минлюб и Минизо.
Министерство любви на самом деле внушало страх. Уинстон никогда не был в Министерстве любви, даже на расстояние в полкилометра к нему не приближался. В это здание нельзя было попасть иначе, как по официальному делу, да и в этом случае приходилось преодолевать лабиринты сплетений колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных расчетов. Даже улицы, ведущие к внешнему кольцу ограждения Министерства, патрулировались охранниками в черной форме, имеющими лица горилл и вооруженными складными дубинками.
Уинстон резко обернулся. Он придал своему лицу выражение спокойного оптимизма, которое более всего подходило для того, чтобы смотреть на телеэкран. Пройдя через комнату, он вошел в крохотную кухоньку. Покинув Министерство в это время дня, он пожертвовал обедом в столовой, зная, что никакой еды в кухне не было, за исключением куска черного хлеба, который нужно было приберечь на завтрашнее утро. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простенькой белой этикеткой, на которой было написано: «Джин Победа». Напиток издавал противный маслянистый запах, как китайская рисовая водка. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с силами и выпил залпом, словно лекарство.
Лицо его тут же сделалось красным, а из глаз потекли слезы. Содержимое бутылки по вкусу напоминало азотную кислоту; более того, проглотив жидкость, ты чувствовал себя так, будто тебя треснули по затылку резиновой дубинкой. Однако уже через секунду ощущение жжения в желудке стихло, а окружающий мир стал казаться чуточку ярче. Из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа» он достал одну сигарету, но по рассеянности держал ее вертикально, и табак высыпался на пол. Со следующей ему повезло больше. Он вернулся в гостиную и сел за маленький столик, стоявший слева от телеэкрана. Из ящика стола он вытащил ручку, бутылку чернил и толстый, в ? листа чистый блокнот с красным переплетом и обложкой из мрамора.
По какой-то причине телеэкран в гостиной был установлен не совсем стандартно. Вместо того чтобы, как это было принято, помещаться на торцевой стене, откуда просматривалась вся комната, он находился на длинной стене, напротив окна. Сбоку от него располагалась небольшая ниша, где сейчас сидел Уинстон и которая, видимо, по замыслу строителей, предназначалась для книжных полок. Сидя в этой нише и отклонившись назад, Уинстон был практически за пределами поля зрения телеэкрана, то есть невидимым. Конечно, его слышали, но, оставаясь в таком положении, он становился незаметным. Возможно, необычная планировка комнаты, натолкнула его на мысль заняться тем, чем он сейчас собирался заняться. Но этому также способствовала и книга с мраморной обложкой, которую он вытащил из ящика стола. Она отличалась невероятной красотой. Ее гладкие, кремового цвета страницы, чуть пожелтевшие от времени, были сделаны по меньшей мере сорок лет назад. Однако он догадывался, что книга намного древнее. Он увидел ее в витрине убогой лавчонки старьевщика где-то в трущобном квартале города (он уже и не помнил, где именно), и его сразу же охватило неодолимое желание владеть этой вещью. Вообще-то членам Партии не полагалось ходить в обычные магазины (работающие, как это называлось, «на свободном рынке»), но правило соблюдалось не особенно строго, потому что иначе было бы невозможно достать целый ряд необходимых вещей, таких как шнурки или бритвенные лезвия. Он тогда быстро огляделся по сторонам, затем проскользнул внутрь магазина и купил книгу за два доллара пятьдесят. Тогда он не знал, для чего именно хотел иметь ее. Он воровато принес ее домой в портфеле. Обладание такой вещью, пусть даже с пустыми страницами, компрометировало его.
Сейчас он собирался начать вести дневник. Это не было противозаконным (ничего не считалось противозаконным, так больше не существовало самих законов), но если бы дневник обнаружили, что его владельца наверняка ожидала бы смерть или не менее двадцати пяти лет принудительных работ в трудовом лагере. Уинстон приладил к ручке перо и облизнул его, чтобы удалить смазку. Ручка являлась архаичным инструментом, ее редко использовали даже для подписей, и Уинстону пришлось потрудиться, чтобы раздобыть эту: прекрасная кремовая бумага, как он думал, заслуживает того, чтобы на ней писали настоящим пером, а не карябали каким-то чернильным карандашом. На самом деле он не привык писать рукой. Все, кроме коротеньких заметок, он обычно наговаривал на диктопис, но для этой цели прибор совершенно не годился. Уинстон окунул ручку в чернила и замешкался на секунду. Где-то внутри все задрожало. Коснуться пером бумаги – уже смелый поступок. Он вывел маленькими корявыми буквами:
4 апреля 1984 года.
Он уселся еще поглубже. Его охватило чувство абсолютной беспомощности. Начнем с того, что он точно не знал, был ли сейчас 1984 год. Должно быть, около того, поскольку он совершенно уверен, что ему тридцать девять, и он считал, что родился в 1944 или в 1945. Но сегодня установить дату с точностью более чем один-два года не представлялось возможным.
Ему вдруг пришло в голову, что он не знает, для кого пишет дневник. Для будущих поколений, для тех, кто еще не родился. Его мысли немного покружили над сомнительной датой, написанной на странице, а затем вдруг уперлись в новодиалектное слово двоемыслие. Он впервые осознал размах поставленной перед собой задачи. Способен ли он общаться с будущим? Невозможность этого заключена в самой природе. Будь завтра похожим на сегодня, его не станут слушать; а если оно будет другим, то нынешние проблемы покажутся там бессмысленными.
В течение некоторого времени он сидел, тупо уставившись на лист бумаги. Между тем телеэкран переключился на резкую военную музыку. Странно, но, похоже, он не просто утратил способность выражать свои мысли, а к тому же забыл, что же именно намеревался сказать. Многие недели он готовился к этому моменту, и ему ни разу не пришло в голову, что здесь ему потребуется что-то еще кроме смелости. Сам по себе процесс написания казался легким. Нужно было только перенести на бумагу тот бесконечный тревожный монолог, который годы и годы в буквальном смысле слова звучал в голове. А сейчас он вдруг прекратился. Кроме того, варикозная язва начала невыносимо зудеть. Он не решался почесать ногу, потому что это всегда вело к воспалению. Тикали секунды. Он не ощущал ничего, кроме пустоты листа бумаги перед ним, зуда кожи над лодыжкой, орущей музыки и легкого опьянения после выпитого джина.
Вдруг он начал панически писать, едва ли понимая, что выводит перо. Строки мелкого детского почерка ползли то вверх, то вниз по странице, теряя сначала заглавные буквы, а потом и точки:
4 апреля 1984 года. Вчера вечером в кино. Только военные фильмы. Один очень хороший о том, как пароход, набитый беженцами, бомбят где-то в Средиземном море. Публику очень развлекли сцены с высоким толстым мужчиной, он плывет, а над ним кружит вертолет, сначала он бултыхается в воде, как бурый дельфин, а затем мы видим его сквозь прицел вертолетного орудия, он весь продырявлен, а море вокруг него окрасилось в розовый цвет, и вдруг он камнем идет на дно, будто набрал воды через дыры, публика взрывается хохотом,когда он тонет. потом вы видите спасательную шлюпку с детьми, и над ней кружит вертолет. там была женщина средних лет, быть может, еврейка, с маленьким мальчиком лет трех на руках. мальчик кричит от страха и прячет голову у нее на груди точно хочет зарыться в нее и женщина обнимает его руками и утешает его хотя сама уже посинела от ужаса, она все время старается закрыть его собой получше, будто руками можно защитить от пуль. потом вертолет сбрасывает на них двадцатикилограммовую бомбу ужасный взрыв и лодка разлетается в щепки. потом прекрасный кадр детская рука летит вверх все выше и выше прямо в небо должно быть снимали камерой на носу вертолета и из партийных рядов раздались аплодисменты но какая-то женщина оттуда где сидели пролы вдруг подняла шум и начала кричать что это нельзя показывать детям что никуда не годится показывать это детям но появилась полиция и вывела ее и я не думаю что ей что-то будет никто не обращает внимания на то что говорят пролы типичная реакция пролов они никогда…
Уинстон остановился, отчасти потому, что затекла рука. Он не знал, зачем он выплеснул на бумагу всю эту ерунду. Но интересно, что пока он занимался этим, в его памяти вдруг всплыло нечто совсем иное, причем так ясно, что хотелось записать это прямо сейчас. Он понял, что именно из-за этого происшествия он и принял внезапное решение уйти домой и приступить к дневнику сегодня.
Это случилось утром в Министерстве, если слово «случилось» можно употребить в отношении такой неясной ситуации.
Было почти одиннадцать ноль-ноль, и работники Департамента документации, где трудился Уинстон, выносили стулья из секций-кабинетиков и ставили их в центре перед большим телеэкраном, готовясь к Двухминутке Ненависти. Уинстон как раз собирался занять свое место в средних рядах, когда в помещение неожиданно вошли еще два человека, которые внешне были ему знакомы, хотя он никогда с ними не разговаривал. Одним из них была девушка, он часто встречал ее в коридорах. Имени ее он не знал, но знал, что она работает в Департаменте художественной литературы. Поскольку он, как правило, видел ее с замасленными руками и гаечным ключом, она, видно, занималась техническим обслуживанием одной из машин для написания романов. Девице самоуверенного вида было лет двадцать семь, она имела густые волосы, веснушчатое лицо и двигалась по-спортивному быстро. Узкий алый пояс – эмблема Молодежной Антисекс-лиги, – несколько раз туго обернутый вокруг талии поверх рабочей одежды, подчеркивал стройные бедра. Уинстон невзлюбил ее с того самого момента, как они впервые встретились. И он знал, почему. Из-за того, что от нее исходил дух хоккейных полей, купаний в холодной воде, туристских походов и некой общей незамутненности сознания. Он не любил почти всех женщин, особенно молоденьких и хорошеньких. Именно женщины, а более всего молодые, являлись фанатичными сторонниками Партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и теми, кто вынюхивал ересь. А эта конкретная девица, по его ощущениям, была еще опаснее других. Однажды проходя мимо по коридору, она бросила на него быстрый косой взгляд, который будто пронзил его насквозь – и его на мгновенье наполнил черный страх. Он подумал вдруг, что она, наверное, агент Полиции мыслей. Да нет, на самом деле маловероятно. Однако всякий раз, когда она оказывалась рядом, он продолжал испытывать странную неловкость, смешанную со страхом и враждебностью.
Другим человеком был мужчина по имени О’Брайен, член Внутренней партии, занимавший такой важный и удаленный пост, что Уинстон мог иметь лишь смутные догадки о его сути. Увидев черный комбинезон представителя Внутренней партии, группа людей, сидевшая на стульях, затихла. О’Брайен был крупным, сильным мужчиной с толстой шеей и грубым насмешливым лицом. Несмотря на устрашающую внешность, в его манерах чувствовалось и некоторое обаяние. Он имел привычку поправлять очки на носу, и в этом жесте было что-то странным образом обезоруживающее, что-то вроде указания на хорошее воспитание. Этот жест напоминал (если кто-то мог бы мыслить такими категориями) дворянина восемнадцатого века, который предлагает свою табакерку. За почти десять лет Уинстон видел О’Брайена, наверное, дюжину раз. Тот неизменно притягивал его – и не только потому что Уинстона озадачивал контраст между хорошими манерами О’Брайена и телосложением профессионального боксера. Более всего это шло от веры в глубине души – может, даже и не веры, а просто надежды, – что политическая ортодоксальность О’Брайена не является безупречной. Что-то в его лице неумолимо говорило об этом. Но, может быть, на его лице отражались не сомнения в догмах, а просто ум. Однако в любом случае у него был вид человека, с которым можно поговорить, спрятавшись от телеэкрана, наедине. Уинстон никогда не предпринимал даже малейшей попытки проверить свою догадку: да у него и не было возможности сделать это. Сейчас О’Брайен взглянул на наручные часы и, увидев, что уже почти одиннадцать, решил остаться на Двухминутку Ненависти в Департаменте документации. Он занял место в том же ряду, где сидел Уинстон – через два стула от него. Между ними расположилась невысокая рыжеволосая женщина, работавшая в соседней с Уинстоном секции. Девица с темными волосами сидела прямо за ним.
Буквально через секунду из большого телеэкрана, висевшего в торце комнаты, раздался отвратительный резкий скрежет, будто начала работать какая-то чудовищная машина без смазки. От этого звука ломило зубы, а волосы вставали дыбом. Ненависть началась.
На экране, как обычно, появилось лицо Эммануэля Гольдштейна – врага народа. Публика зашевелилась и зашикала. Маленькая рыжеволосая женщина завизжала от страха и отвращения. Гольдштейн являлся ренегатом и отступником, который когда-то, давным-давно (так давно, что об этом уже никто и не помнил), был одним из высших руководителей Партии, почти равным самому Большому Брату, а затем он начал контрреволюционную деятельность и, будучи приговоренным к смертной казни, таинственным образом бежал и исчез. Программы Двухминуток Ненависти каждый день менялись, но Гольдштейн неизменно оставался в них главным действующим лицом. Он считался первым предателем, тем, кто раньше других осмелился осквернить чистоту Партии. Все последующие преступления против Партии, все измены, акты саботажа, проявления ереси и отклонений уходили своими корнями исключительно в его учение. Так или иначе, но он все еще был жив и вынашивал заговоры: возможно, где-то за морем, находясь под защитой своих иностранных хозяев, а может быть, даже – иной раз возникали и такие слухи – в подполье в самой Океании.
Уинстон начал задыхаться. Вид Гольдштейна всегда вызывал у него болезненную смесь эмоций. Худое еврейское лицо в пушистом ореоле седых волос, небольшая козлиная бородка – умное лицо, в котором в то же время чувствовалось что-то необъяснимо отталкивающее, а длинный тонкий нос с очками, съехавшими на самый кончик, вызывал мысли о старости и дряхлости. Внешний вид его напоминал овцу, и в голосе его тоже слышалось овечье блеяние. Гольдштейн, как обычно, злобно нападал на доктрины Партии; и речь его была столь несуразная и вздорная, что ей не поверил бы и ребенок, однако она не была совсем лишена правдоподобия и вызывала у слушателя тревогу, что другие люди, менее рассудительные, чем он сам, могут поддаться ее воздействию. Он оскорблял Большого Брата, он обличал диктатуру Партии, он требовал немедленного заключения мира с Евразией, он защищал свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мыслей, он истерично кричал, что революцию предали – и все это сложной скороговоркой, напоминавшей пародию на привычный стиль партийных ораторов и даже содержавшей слова новодиалекта, которые в действительности встречались в его речи чаще, чем у любого партийца в обычной жизни. И во время его речи, чтобы не было ни малейших сомнений в лицемерном вздоре Гольдштейна, за его спиной маршировали бесчисленные колонны евразийских солдат – шеренга за шеренгой крепкие мужчины с бесстрастными азиатскими лицами появлялись на экране и исчезали, сменяясь другими, в точности похожими на них. Ритмичный топот солдатских сапог сопровождал блеяние Гольдштейна.
Прошло не более тридцати секунд Ненависти, а добрую половину людей в помещении уже охватил гнев. Самоуверенное овечье лицо на экране, устрашающая сила Евразийской армии за ним – все это было уже слишком; а кроме того, один вид Гольдштейна непроизвольно вызывал страх и ярость. Этого человека ненавидели больше, чем Евразию или Истазию, поскольку, когда Океания находилась в состоянии войны с одной из этих держав, с другой она обычно заключала мир. Но вот что удивительно: несмотря на то, что Гольдштейна ненавидели и презирали, несмотря на то, что каждодневно и тысячу раз на дню на платформах, телеэкранах, в газетах и книгах опровергали, громили и высмеивали его жалкие теории, несмотря на все это, его влияние, казалось, никогда не ослабевало. Все новые и новые простофили будто ожидали, дабы он их одурачил. И дня не проходило без того, чтобы Полиция мыслей не разоблачала действующих по его указке шпионов и вредителей. Он командовал большой теневой армией и подпольной сетью заговорщиков, поставивших себе целью свержение государственного строя. Вроде бы они именовали себя Братством. Шептались также о страшной книге – собрании всех ересей, автором которой считался Гольдштейн и которая нелегально появлялась то здесь, то там. Названия у нее не было. А если люди вдруг и говорили о ней, то называли ее просто КНИГА. Но все это было известно только благодаря неясным слухам. Простые члены Партии старались, если это было возможным, не упоминать ни о Братстве, ни о Книге.
На второй минуте Ненависть достигла бешенства. Люди раскачивались на стульях и кричали изо всех сил, пытаясь заглушить ненавистный блеющий голос, доносящийся из телеэкрана. Маленькая рыжеволосая женщина раскраснелась и открывала и закрывала рот, словно рыба, вытащенная из воды. Даже грубое лицо О’Брайена побагровело. Он, выпрямившись, сидел на стуле, а его мощная грудная клетка вздымалась и содрогалась, словно в нее били волны прибоя. Темноволосая девица за спиной Уинстона начала выкрикивать: «Свинья! Свинья! Свинья!» – а затем вдруг схватила тяжелый словарь новодиалекта и швырнула его в экран. Угодив в нос Гольдштейна, книга отскочила от телеустройства; голос же продолжал вещать. В момент просветления Уинстон обнаружил, что кричит вместе со всеми и яростно пинает пяткой перекладину стула. Самое ужасное в Двухминутке Ненависти заключалось в том, что тебе не нужно было играть роль, напротив, ты просто не мог остаться в стороне. Проходило всего лишь тридцать секунд – и притворство теряло смысл. Невероятный экстаз страха и жажда мести, желание убивать, мучить, плющить лица кувалдой, казалось, распространялись в группе людей, словно электрический ток, превращая каждого даже против его воли в визжащего безумца, стоящего гримасы. Ярость, ощущаемая человеком, носила абстрактный характер, а не имевшие цели чувства можно было обратить на любой нужный объект, как пламя паяльной лампы. Так, в какой-то момент получалось, что ненависть Уинстона направлена не на Гольдштейна, а, наоборот, на Большого Брата, на Партию и Полицию мыслей; в такие минуты его сердце тянулось к одинокому, осмеянному еретику на экране, единственному защитнику правды и здравомыслия в мире лжи. Однако через секунду он был уже заодно с окружавшими его людьми и видел правду в том, что говорят о Гольдштейне. Тогда мгновенья тайного отвращения к Большому Брату сменялись обожанием, и Большой Брат, казалось, возносился над ним – непобедимый, бесстрашный защитник, стоявший, как скала, на пути азиатских орд, а Гольдштейн, несмотря на его изоляцию, беспомощность и сомнения в самом его существовании становился каким-то злодеем-волшебником, способным просто силой своего голоса сокрушить здание цивилизации.
Иной раз было даже возможно усилием воли переключить свою ненависть на тот или иной предмет. Внезапно с помощью невероятного напряжения, подобного тому, когда тебе удается во время ночного кошмара оторвать голову от подушки, Уинстону удалось перенести свою ненависть с лица на экране на темноволосую девицу за спиной. И в его голове замелькали живые и прекрасные картины. Вот он насмерть забивает ее резиновой дубинкой. Вот он привязывает ее, голую, к столбу, и почти сразу все тело ее истыкано стрелами, как у Святого Себастьяна. Вот он насилует ее и перерезает ей горло в тот самый момент. Сейчас яснее, чем прежде, он понимал, ПОЧЕМУ так ненавидит ее. Потому что она молодая, красивая и бесполая, потому что он хочет спать с ней, а этого никогда не случится, потому что на ее прекрасной гибкой талии, словно созданной для объятий, не его рука, а этот мерзкий алый пояс – агрессивный символ девственности.
Ненависть достигла своего апогея. Голос Гольдштейна теперь уже превратился в самое настоящее блеяние, а лицо его на мгновенье сменилось мордой овцы. Затем оно трансформировалось в фигуру евразийского солдата, который, громадный и страшный, шел прямо на публику, стреляя из автомата. Казалось, он сейчас выпрыгнет из экрана, а потому некоторые из сидящих на передних рядах на самом деле отпрянули назад. Но тут же последовал вздох облегчения: вражеский солдат растворился, и его заслонило изображение Большого Брата – черноволосого, с темными же усами, человека, от которого исходили сила и таинственное спокойствие; лицо его заполнило почти весь экран. Никто не слышал, о чем именно говорил Большой Брат. Просто несколько слов ободрения, вроде тех, что говорят во время битвы – неважно, что смысла не разобрать, уверенность вселяет сам факт их произнесения. Затем лицо Большого Брата потускнело, и выступили три лозунга Партии, написанных четкими заглавными буквами:
Война – это мир
Свобода – это рабство
Незнание – сила
Однако Большой Брат еще несколько секунд оставался на экране, словно воздействие его на глаза зрителей было столь ярким, что он не мог исчезнуть сразу же, немедленно. Маленькая рыжеволосая женщина упала на спинку стула, стоявшего перед ней. Она простерла свои руки к экрану и робко пробормотала что-то вроде: «Спаситель мой!» Затем она закрыла лицо руками. Видимо, читала молитву.
В этот момент все присутствующие начали громко и ритмично скандировать: «Бэ-бэ!.. Бэ-бэ!» – снова и снова, очень медленно, делая долгую паузу между первым «Бэ» и вторым; это был рокочущий, какой-то странный первобытным звук, в котором слышался топот босых ног и бой тамтамов. Песнопение длилось, наверное, с полминуты. Его часто можно было услышать в те моменты, когда людей переполняли эмоции. Отчасти оно представляло собой гимн мудрости и величию Большого Брата, а еще более оно напоминало некий самогипноз – намеренное отключение сознания посредством ритмичного звука. Уинстон ощутил холодок в животе. Во время Двухминутки Ненависти он не мог не поддаться общему исступлению, но это дикарское песнопение:
«Бэ-бэ!.. Бэ-бэ!» – всегда леденило его душу. Конечно, он скандировал с остальными – иначе никак. Скрывать свои чувства, контролировать выражение лица, делать то же, что и другие – все это давно стало для него инстинктом. Однако существовал и небольшой промежуток – пара секунд, – во время которого глаза могли выдать его. И вот именно в этот момент случилось нечто значительное, если, конечно, оно случилось.
Он вдруг посмотрел на О’Брайена. О’Брайен встал. Он снимал очки, и сейчас, надев их, сделал характерный жест, поправляя их. Их взгляды встретились всего лишь на долю секунды, но Уинстону было достаточно этого времени, чтобы знать (да, знать!): О’Брайен думает о том же, что и он сам. Безошибочное послание. Будто два разума раскрылись, и мысли невидимым потоком перетекли из одной головы в другую через глаза. Казалось, О’Брайен говорит ему: «Я с тобой. Я точно знаю, что ты чувствуешь. Я знаю о твоем презрении, ненависти, отвращении. Не тревожься. Я на твоей стороне!» Затем вспышка разума погасла, и О’Брайен придал своему лицу такое же непроницаемое выражение, как у всех.
Вот и все, он уже и не знал, было ли это. Такие случаи никогда не имели продолжения. Они давали лишь одно: поддерживали в нем веру или надежду, что у Партии есть еще другие враги – кроме него. Возможно, слухи о крупных подпольных заговорах все же были верны, быть может, Братство на самом деле существует! Несмотря на бесконечные аресты, признания и казни, нельзя было с уверенностью утверждать, что Братство – это не просто миф. Иной раз он верил в него, а иной раз – нет. Доказательства отсутствовали, были только быстрые взгляды, которые равным образом могли что-то значить или не значить ничего, обрывки подслушанных разговоров, едва заметные надписи на стенах туалета; а однажды он видел, как при встрече двое сделали слабое движение рукой – быть может, какой-то приветственный жест узнавания. Только догадки: возможно, он просто все это придумал. Возвращаясь в свою секцию-кабинет, он больше не смотрел на О’Брайена. Ему даже в голову не приходило как-то закрепить мимолетный контакт. Даже если бы он знал, как к этому подойти, это было бы невероятно опасно. За одну-две секунды они успели обменяться красноречивыми взглядами, но на этом история закончилась. Но она все равно была запоминающимся событием для того, кто принужден жить в пустом одиночестве.
Уинстон очнулся и выпрямился. Он рыгнул. Это джин поднимался из глубины желудка.
Он снова сфокусировал взгляд на бумаге. Оказывается, пока он предавался невольным размышлениям, его рука продолжала писать – автоматически. И уже не прежние неуклюжие каракули. Сладострастно скользя по гладкой бумаге, перо выводило аккуратными печатными заглавными буквами: «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА», – снова и снова, заполнив уже половину страницы.