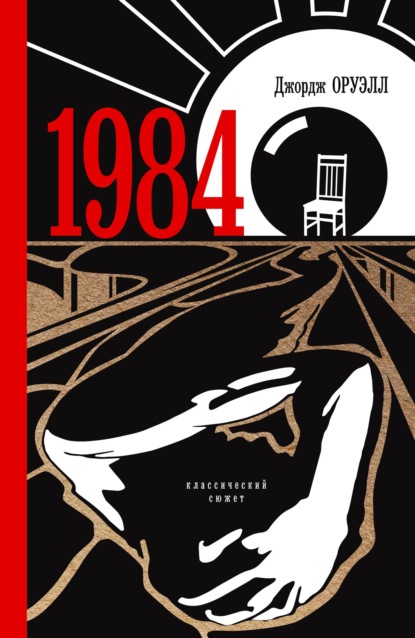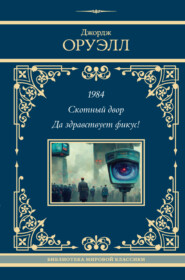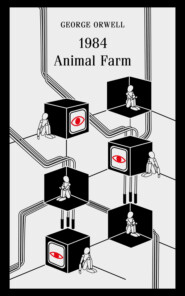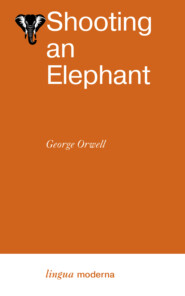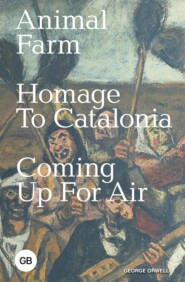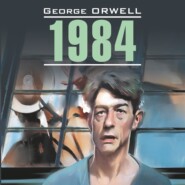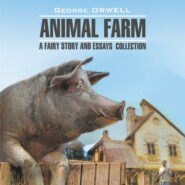По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
1984
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– К нам Парсонс идет, – сказал он.
Тон его голоса, казалось, говорил, что он хочет добавить: «Этот дурак набитый». Парсонс, сосед Уинстона по жилому комплексу «Виктория», действительно, пробирался между столиками – мужчина среднего роста, с фигурой, напоминающей бочку, со светлыми волосами и лягушачьим лицом. В свои тридцать пять он уже обзавелся жирком на шее и животе, но движения его были бодрыми, мальчишескими. Да и весь его внешний вид сильно напоминал мальчика, только довольно большого, так что, хотя он и носил стандартный комбинезон, его можно было легко представить в синих шортах, серой рубашке и с красным галстуком на шее – в форме Разведчиков. Глядя на него, ты невольно рисовал в воображении содранные коленки и закатанные до локтей рукава. Парсонс и на самом деле постоянно надевал шорты во время пеших походов или какой-либо другой физической деятельности, которая служила оправданием для одежды такого рода. Он поздоровался с ними словами: «Привет, привет!», – и присел за столик, испуская сильный запах пота. Влажные бусинки рассыпались по всему его розовому лицу. Крепость пота у Парсонса была просто невероятной. Зайдя в Общественный центр, ты по влажности ручки ракетки всегда мог определить, играл ли здесь только что Парсонс. Сайм достал полоску бумаги с длинным столбом слов, написанных на ней, и начал водить по ней чернильным карандашом, зажатым между пальцами.
– Только посмотрите, он и в обед работает, – заметил Парсонс, подтолкнув локтем Уинстона. – Интересно, ага? Что там у вас, старина? Наверное, слишком заумно для меня. Смит, старина, я ведь за вами бегаю. Вы тут забыли у меня подписаться.
– Что за подписка? – спросил Уинстон, машинально нащупывая в кармане деньги. Около четверти зарплаты ему приходилось тратить на добровольные подписки – столь многочисленные, что в них невозможно было и разобраться.
– На Неделю Ненависти. Ну, вы знаете – домовой фонд. Я казначей нашего дома. Мы столько сил кладем – будет грандиозное шоу. Я вам вот что скажу: если у нашего комплекса «Победа» не будет больше всех флагов на улице, то это не моя вина. Вы мне два доллара обещали.
Уинстон нашел и протянул ему две мятых грязных банкноты, а Парсонс тут же аккуратным почерком малограмотного человека сделал в маленьком блокноте пометку о взносе.
– Кстати, старина, мне тут сказали, что мой маленький разбойник стрельнул в вас вчера из рогатки. Я задал ему хорошую взбучку. Сказал, что если это повторится, то вообще отберу рогатку.
– Думаю, он немного расстроился, что не пошел на казнь.
– Да уж… Вот что я хочу вам сказать: сразу видно, что воспитан в правильном духе, ведь так? Озорные ребята – оба, зато какие у них интересы! Все мысли о Разведчиках, и о войне, конечно. Слышь, что утворила моя девчушка в прошлое воскресенье, когда у ее отряда был поход в Беркхэмстед? Она подбила еще двух девчонок, они ускользнули от остальных и весь день следили за каким-то человеком. Шли за ним два часа прямо по лесу, а затем, оказавшись в Амершеме, сдали его на руки патрулю.
– А зачем они это сделали? – озадаченно спросил Уинстон.
Парсонс с триумфом в голосе продолжал:
– Моя дочурка думала, что это вражеский агент – может, его, к примеру, сбросили с парашютом. Но вот в чем суть, старина. Как вы думаете, почему она сразу же заподозрила его? Она заметила, что у него забавные туфли; говорит: никогда такие не видела. Значит, он может оказаться иностранцем. Правда, умно для семилетней девчушки, да?
– И что с этим мужчиной? – поинтересовался Уинстон.
– Да, кто его знает. Не удивлюсь, если… – Парсонс сделал вид, будто прицеливается из винтовки, и щелкнул языком, намекая на выстрел.
– Хорошо, – рассеяно произнес Сайм, не отрывая взгляда от полоски бумаги.
– Конечно, нельзя ничего упускать, – покорно согласился Уинстон.
– Я хочу сказать, что идет война, – заметил Парсонс.
И словно в подтверждение его слов телеэкран, расположенный прямо над их головами, издал звук фанфар. Однако на сей раз не говорили о военных победах – транслировали заявление министра изобилия.
– Товарищи! – выкрикнул бодрый моложавый голос. – Внимание, товарищи! Отличные новости! Мы выиграли битву на производстве! Показатели выпуска всех потребительских товаров говорят о том, что уровень жизни поднялся не менее чем на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Сегодня утром во всей Океании прошли неудержимые стихийные митинги. Рабочие вышли из фабрик и учреждений с флагами в руках и маршем прошли по улицам, выражая огромную благодарность Большому Брату за новую счастливую жизнь, которую дарует нам его мудрое руководство. Приведу некоторые цифры. Производство продовольственных товаров…
Слова о «новой счастливой жизни» повторялись несколько раз. В последнее время любимая фраза Министерства изобилия. Парсонс, чье внимание привлекли фанфары, сидел и внимал, важно приоткрыв рот, что свидетельствовало одновременно о крепкой вере и скуке. Цифры не укладывались в его голове, но он понимал, что они должны вызывать удовлетворение. Он достал огромную закопченную трубку, до середины заполненную искуренным табаком. Выдача табака составляла 100 граммов в неделю, а потому набить трубку до краев удавалось очень редко. Уинстон курил сигарету «Виктория», которую старался держать горизонтально. Новый срок выдачи только завтра, а у него осталось всего четыре сигареты. На секунду он отключился от посторонних шумов и послушал то, что передавали по телеэкрану. Получается, демонстранты выражали благодарность Большому Брату за увеличение нормы выдачи шоколада до двадцати граммов в неделю. А только вчера, вспомнил он, объявили о том, что норма УМЕНЬШАЕТСЯ до двадцати граммов в неделю. Разве могли люди проглотить это всего лишь за сутки? Да, проглотили. Парсонс проглотил без всяких проблем, с животной тупостью. Безглазое существо за соседним столиком проглотило эту новость фанатично, страстно, с безумным желанием выследить любого, кто посмеет предположить, что норма прошлой недели составляла тридцать граммов – донести на него, пусть его распылят. Сайм тоже проглотил – только более сложным путем, с привлечением двоемыслия. Неужели он, Уинстон, ОДИН обладает памятью?
С телеэкрана продолжала литься потрясающая статистика. По сравнению с прошлым годом произвели больше продуктов питания, больше одежды, построили больше домов, сделали больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше пароходов, больше вертолетов, больше книг, больше детей – словом, стало больше всего, за исключением болезней, преступности и безумия. Год за годом, минута за минутой вся и всё быстро двигалось вверх. Уинстон, как ранее Сайм, взял свою ложку и начал водить ею по белесому соусу, пролитому по столу, вычерчивая на нем какие-то узоры. Он с досадой размышлял над физической сущностью жизни. Всегда ли она была такой? Всегда ли пища так пахла? Он окинул взглядом столовую. Комната с низким потолком, под завязку заполненная людьми, со стенами, замасленными от бесконечного контакта с множеством тел; потрепанные металлические столики и стулья, поставленные так близко, что, сидя, вы задеваете друг друга локтями; гнутые ложки, выщербленные подносы, ужасные белые кружки; все поверхности покрыты слоем жира, грязь в каждой трещине; кисловатый запах – смесь плохого джина, помойного кофе, металлической на вкус подливки и грязной одежды. Твой желудок, твоя кожа постоянно протестуют от того, что ты пытаешься их обмануть, подсунуть что-то неправильное. Да, он не сохранил воспоминаний о чем-то совершенно ином. В то же время он точно помнил, что никогда не ел досыта, что никогда не носил носки и белье без дыр, что мебель всегда была старой и шаткой, комнаты плохо обогревались, в вагонах метро толкались люди, дома разваливались, хлеб имел темный цвет, чай был жидким, а кофе – ужасным на вкус, сигарет не хватало; только синтетический джин, отличающийся дешевизной, поставлялся в избытке. И хотя понятно, что тело стареет с возрастом, разве это не признак неправильного порядка вещей, если тебя тошнит от дискомфорта, грязи и дефицита, от бесконечной зимы, от заношенных носков, от неработающих лифтов, от холодной воды, зернистого мыла, высыпающихся сигарет и пищи со странным дьявольским вкусом? Что делает все это таким невыносимым, если не память предков о том, что раньше все было иначе?
Он снова оглядел столовую. Почти все сидевшие в ней были уродливы, даже если снять с них синие форменные комбинезоны и переодеть их обладателей во что-то более что-то более симпатичное. В дальнем конце зала за столом в одиночестве ел мужчина – маленького роста, странным образом напоминавший жука; он пил кофе, а его маленькие глазки с подозрением бегали по сторонам. Как же легко, подумал Уинстон, если ты не оглядываешься, поверить, что существует и даже преобладает провозглашаемый Партией идеальный физический тип – высокие мускулистые молодые люди и полногрудые девушки, светловолосые, полные жизни, загорелые, беззаботные.
На самом же деле, он видел: люди на территории Взлетной Полосы Один были по большей части низкорослыми, темноволосыми, невзрачными. Любопытно, как процветал в министерствах жукоподобный типаж: низенькие, коренастые мужички, рано набирающие вес, коротконогие, с быстрыми суетливыми движениями и одутловатыми непроницаемыми лицами, на которых гнездились маленькие глазки. Тот самый типаж, что, похоже, размножился в период правления Партии.
Конец заявления Министерства изобилия вновь ознаменовали фанфары, звук которых сменился резкой музыкой. Парсонс, у которого цифровая бомбардировка вызвала рассеянный энтузиазм, вытащил трубку изо рта.
– Да уж, Министерство изобилия отлично поработало в этом году, – сказал он, со знанием дела покачав головой. – Кстати, Смит, старина, не одолжите ли вы мне лишнее бритвенное лезвие, если у вас есть?
– Нет ни одного, – ответил Уинстон. – Сам бреюсь старым уже шесть недель.
– А, ладно, старина, на всякий случай спросил.
– Извините, – сказал Уинстон.
Голос за соседним столом, молчавший во время заявления Министерства, снова закрякал – так же громко, как прежде. Уинстон поймал себя на том, что почему-то думает о миссис Парсонс – о женщине с редкими растрепанными волосами и пылью в морщинах лица. И двух лет не пройдет, как эти детки донесут на нее в Полицию мыслей. Миссис Парсонс распылят. И Сайма распылят. И Уинстона распылят. О’Брайена распылят. А вот Парсонса никогда не распылят. Безглазое существо с крякающим голосом никогда не распылят. Маленьких мужчин-жучков, которые рассыпаются словно тараканы по лабиринтам коридоров Министерства, тоже никогда не распылят. И темноволосую девицу из Департамента художественной литературы – ее тоже никогда не распылят. Ему показалось, будто он инстинктивно чувствует, кому суждено выжить, а кому – погибнуть, хотя он не мог объяснить, что именно гарантирует выживание.
В этот момент будто сильный толчок прервал его размышления. Девушка за соседним столом, немного развернувшись, смотрела на него. Это была та, темноволосая. Она смотрела на него искоса, со странной напряженностью. Но, заметив ответный взгляд, она тут же отвернулась.
Уинстона прошиб холодный пот. Нахлынул страшный ужас. Он прошел почти сразу, оставив, однако, ощущение мучительной неловкости. Почему она смотрела на него? Почему она преследует его? К сожалению, он не мог вспомнить, сидела ли она уже за столом, когда он пришел, или явилась позже. Но в любом случае вчера, во время Двухминутки Ненависти она села на место прямо за его спиной, а ведь никакой необходимости в этом не было. Весьма вероятно, что она хотела послушать, будет ли он кричать достаточно громко.
И прежние подозрения снова нахлынули на него: возможно, она и не служит в Полиции мысли, но совершенно точно является их добровольным шпионом, а это еще опаснее. Он не знал, долго ли она смотрела на него, но, может быть, минут пять, в течение которых, он, вероятно, не всегда полностью контролировал выражение лица. Крайне опасно позволять мыслям так вольно блуждать, когда ты находишься в общественном месте или в зоне видимости телеэкрана. Малейшее движение способно выдать тебя. Нервный тик, бессознательное выражение беспокойства, привычка что-то бормотать – все, что дает возможность предположить отклонение, наличие в голове того, что следует прятать. В любом случае, иметь неподобающее выражение лица (выглядеть скептически при объявлении очередной победы, например) само по себе уже считается правонарушением, подлежащим наказанию. Для этого явления в новодиалекте и слово есть – лицепреступление.
Девица опять повернулась к нему спиной. А может, она на самом деле и не следит за ним, может, это просто совпадение, что она в последние два дня находится рядом. Его сигарета потухла, и он осторожно положил ее на край стола. Докурит после работы, если ухитрится не высыпать из нее табак. Весьма вероятно, что девушка за соседним столом – шпион Полиции мыслей, и весьма вероятно, что не пройдет и трех дней, как он, Уинстон, окажется в подвалах Министерства любви, но окурок все равно нужно сохранить. Сайм сложил свою полоску бумаги и убрал ее в карман. Парсонс снова завел разговор.
– А я рассказывал вам, парни, – спросил он, посмеиваясь и не выпуская трубки изо рта, как однажды мои ребятишки подожгли юбку торговки на рынке, потому что увидели: она заворачивает колбасу в плакат с Б.Б.? Подкрались сзади и подожгли целым коробком спичек. Думаю, у нее ожоги неслабые были. Маленькие разбойники, ага? Но какие увлеченные! Сейчас в Разведчиках круто тренируют – лучше даже, чем в мое время. Как вы думаете, чем их снабдили недавно? Слуховыми трубками, чтобы подслушивать сквозь замочные скважины! Моя девчонка принесла вчера вечером одну домой, проверила ее в нашей гостиной и утверждает, что слышно в два раза лучше, чем если просто приложить ухо к замку. Конечно, игрушка, замечу я вам. Но дает им правильное направление, а?
В этот момент телеэкран испустил пронзительный свист. Сигнал возвращаться к работе. Все трое вскочили на ноги, дабы присоединиться к столпившимся у лифтов, и табак, остававшийся в сигарете Уинстона, просыпался.
Глава 6
Уинстон писал в дневнике:
Это было три года назад. Темным вечером в переулке, радом с одним из больших вокзалов. Она стояла у калитки в стене, под уличным фонарем, который почти не давал света. Ее молодое лицо было покрыто толстым слоем косметики. Меня и привлекло то, что она так сильно накрашена – белое-пребелое лицо, словно маска, и ярко-красные губы. Женщины из Партии никогда не красились. На улице больше никого, и телеэкранов нет. Она сказала: «Два доллара». Я…
Вдруг ему стало трудно продолжать. Он закрыл глаза и нажал пальцами на веки, будто пытаясь выдавить картинку, крутящуюся у него в голове. Ему отчаянно захотелось громко выкрикнуть ругательные слова. Или удариться головой о стену, пнуть стол, а может быть, швырнуть в окно чернильницей – сделать что-то неправильное, шумное или болезненное, что заставило бы его память померкнуть и перестать мучить его.
Нервная система, подумал он, – худший из твоих врагов. В любой момент напряжение, скрывающееся внутри, способно прорваться и дать о себе знать внешним симптомом. Он подумал о человеке, мимо которого прошел по улице несколько недель назад – просто мужчина с заурядной внешностью, член Партии, лет тридцати пяти – сорока, выше среднего роста, худой. Он нес портфель. Они были в нескольких метрах друг от друга, когда левую часть лица прохожего вдруг исказил спазм. А затем еще один, когда они поравнялись: всего лишь подергивание, мелкая судорога, быстрая, как щелчок фотокамеры, и явно привычная. Он помнил промелькнувшую тогда мысль: с беднягой все кончено. И особенно пугало то, что этот тик у него, скорее всего, был бессознательным. Нет ничего страшнее, чем говорить во сне. Он понимал, что это не поддается контролю.
Он вздохнул и продолжил писать:
Я последовал за ней в дверь, и мы прошли через задний двор в подвальную кухню. Там у стены стояла кровать, а над столом висела керосиновая лампа, которая еле-еле светила. Она…
Он скрипнул зубами. Очень хотелось плюнуть. Он думал сейчас не только о той женщине в кухне, но и о своей жене Катарине. Уинстон был женат – когда-то давно, скорее всего, он и сейчас не является холостым: насколько он знал, жена его не умерла. Ему показалось, что он снова вдохнул теплый спертый дух подвальной кухни, перемешанный с запахами клопов, грязной одежды и мерзких дешевых духов; последний все равно возбуждал, потому что ни одна женщина из партийцев не пользовалась духами – невозможно было даже это вообразить. Только пролки душились. В его представлении этот запах неизменно ассоциировался с блудом.
Тот случай, когда он пошел с женщиной, – его первый проступок года за два. Общение с проститутками конечно, запрещалось, но это было одним из тех правил, которые время от времени ты мог осмелиться нарушить. Опасно, но не вопрос жизни и смерти. Поймают с проституткой – отправят на пять лет в трудовой лагерь, не больше, если за тобой нет других правонарушений. К этому относились легко, если тебя не застукали во время самого полового акта. Бедные кварталы изобиловали продажными женщинами. Некоторые отдавались за бутылку джина, ведь пролам джин не полагался. Негласно Партия даже была склонна поощрять проституцию, так как она представляла собой выход для инстинктов, которые невозможно все время подавлять. К разврату как таковому относились спокойно, если он был тайным и безрадостным и если касался женщин из низшего, презираемого класса. А вот неразборчивость в связях среди членов Партии каралась. Однако, несмотря на то, что в этом преступлении во время великих чисток обвиняемые признавались чаще всего, трудно было представить, что такое может случиться на самом деле.
Цель Партии состояла не просто в том, чтобы не дать мужчинам и женщинам связать себя союзом, в основе которого лежит преданность и который было бы трудно контролировать. Реальной задачей, о коей не говорилось вслух, было еще и изъятие всякого удовольствия из полового акта. Врага видели не в любви, а в эротике, проявляющейся как в семье, так и вне ее. Все браки между членами Партии должны были получать одобрение особого комитета, созданного для этой надобности, и, хотя принцип этот никогда открыто не провозглашался, разрешения не давали, если возникало впечатление, что пару физически влечет друг к другу. Только одна цель признавалась в в браке – производить детей для служения Партии. На половой акт смотрели как на слегка противную небольшую процедуру, что-то вроде клизмы. И опять же об этом прямо не говорилось, но окольными путями вбивалось в голову каждого члена Партии с самого раннего детства. Существовали даже специальные организации, такие, как Молодежная Антисекс-лига, которые отстаивали абсолютное целомудрие для обоих полов. Все дети должны были рождаться с помощью искусственного осеменения (искос — на новодиалекте) и затем воспитываться общественными организациями. К этому, по мнению Уинстона, не относились слишком серьезно, но сама концепция соответствовала общему духу идеологии Партии. Партия стремилась уничтожить половой инстинкт или, если это невозможно, извратить его и вымазать грязью. Уинстон понятия не имел, зачем это нужно, но такая политика казалась вполне естественной. И в отношении женщин усилия Партии увенчались большим успехом.
Он снова подумал о Катарине. Должно быть, со времени их расставания прошло девять или десять лет. Интересно, почему он так редко вспоминает ее. Иногда на несколько дней подряд забудет, что был когда-то женат. Они прожили вместе около пятнадцати месяцев. Партия не разрешала разводы, а раздельное проживание даже поощряла в тех случаях, когда в семье не имелось детей.
Катарина была высокой блондинкой, очень стройной; ее движения очаровывали. Она имела самоуверенное и гордое лицо – лицо, в котором виделось благородство до тех пор, пока ты не обнаруживал, что за орлиным профилем практически ничего нет. Уже в самом начале их совместной жизни он понял (хотя, быть может, просто потому, что он знал ее лучше, чем остальных людей), что она отличалась такой степенью непревзойденной тупости, вульгарности и отсутствия всяческого ума, какую он никогда ни в ком не встречал. Ни единой мысли, кроме лозунгов, не гуляло в ее голове, и не существовало ни одной глупости – абсолютно ни одной, – которую она не могла бы проглотить, если та исходила от Партии. Про себя он называл ее «женщина-фонограмма». Однако он бы терпел ее всю жизнь, если бы не единственная проблема – секс.
Едва он прикасался к ней, как она вздрагивала и каменела. Обнимать ее было все равно что деревянную статую. И еще вот что странно: даже когда она прижимала его к себе, у него складывалось впечатление, будто она одновременно изо всех сил отталкивает его. А окаменевшие мышцы лишь усиливали это ощущение. Зажмурив глаза, она лежала, не сопротивляясь и не участвуя в процессе, а лишь ПОДЧИНЯЯСЬ. Сначала было стыдно и неловко, а потом и просто ужасно. Но и это он все равно бы терпел, если бы они решили хранить целомудрие. К его удивлению, Катарина не пошла на такой шаг. Она сказала, что они должны родить ребенка, если получится. А потому действо продолжало происходить – раз в неделю, довольно регулярно, всякий раз, как было возможно. Иногда она напоминала ему утром, что вечером у них кое-что будет, о чем никак нельзя забыть. Для обозначения процесса она использовала два названия. Одним из них было «делать ребенка», а другим – «наш долг перед Партией» (да-да, она именно так и говорила). Довольно скоро у него развилось чувство откровенного ужаса, которое охватывало его в назначенный день. К счастью, ребенка они не зачали, и в конечном итоге она согласилась прекратить попытки, а вскоре они разошлись.
Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал:
Она бросилась на кровать и сразу же без лишних слов, так бесстыдно и грубо, что трудно представить, подняла юбку. Я…