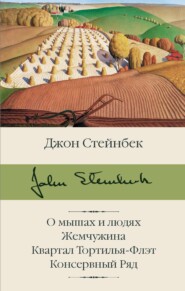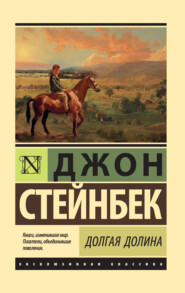По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гроздья гнева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да? – Робость матери только увеличивала его собственную робость, вызывала в нем какое-то непонятное смущение. Каждый из них знал, что другой смущается, и еще больше робел от этого.
– Томми, я хочу тебя спросить… Ты не озлобился?
– Озлобился, ма?
– Тебе злоба не затуманила голову? Может, тебе теперь все ненавистно? Может, в тюрьме тебя до того довели, что ты сам не свой стал?
Он посмотрел на нее искоса, посмотрел пристально, и глаза его словно спрашивали, откуда она знает все это.
– Н-нет, – ответил он. – Может, только на первых порах. Да я ведь не такой гордый, как другие. С меня как с гуся вода. А почему ты спрашиваешь, ма?
Теперь мать смотрела на него, приоткрыв рот, стараясь не пропустить ни единого слова; она впивалась глазами ему в лицо, стараясь выведать все до конца.
Мать искала того ответа, который слова всегда утаивают. Она заговорила смущенно и сбивчиво:
– Я знала Боя Флойда. Я знала его мать. Они хорошие люди. Бой Флойд был озорной, но в этом ничего плохого нет. – Она замолчала на минутку, потом слова полились потоком. – Может, не со всеми так бывает, но как с ним было, я знаю. Он в чем-то провинился, его избили за это, поймали и избили, и он озлобился. Потом он опять что-то натворил, уже со зла, и его опять избили. До того довели, что мальчишка совсем разум потерял. В него стреляли, как в зверя, а он отстреливался. Погнали его с собаками, точно койота, а он скалит зубы, огрызается. Совсем потерял разум. И не мальчишка, и взрослым его не назовешь. Волк, настоящий волк. Кто его знал, те его не обижали. У него против них злобы не было. Наконец затравили мальчишку собаками и убили. В газетах бог знает что было написано, а я помню, как это случилось на самом-то деле. – Она замолчала, облизнула языком пересохшие губы, и ее глаза спрашивали, с мучительной тревогой глядя на Тома: – Я хочу знать, Томми. Тебя били? Ты тоже озлобился?
Полные губы Тома были плотно сжаты. Он взглянул на свои большие, сильные руки.
– Нет, – сказал он. – Я не из таких. – Он помолчал, продолжая рассматривать пальцы с обломанными, твердыми, как ракушки, ногтями. – Я в тюрьме жил тихо, старался, чтобы ничего такого не было. Во мне злобы нет.
Она вздохнула и проговорила вполголоса:
– Слава богу!
Он быстро взглянул на нее.
– Ма, когда я увидел, что сделали с нашим домом…
Она подошла к нему совсем близко и заговорила горячо, взволнованно:
– Томми! В одиночку нельзя драться. Затравят тебя, как зверя. Я, Томми, все думала, гадала, прикидывала. Говорят, таких вот, согнанных с места, вроде нас, сто тысяч. Если бы мы все озлобились, Томми, да показали свою злобу… тогда нас не затравить… – Она замолчала.
Том медленно опустил веки, и теперь его глаза только чуть поблескивали сквозь ресницы.
– И многие так думают? – спросил он.
– Не знаю. Люди сейчас какие-то пришибленные. Ходят как во сне.
В дальнем конце двора послышался скрипучий старческий голос:
– Сла-ава Господу Богу! Сла-ава Господу Богу!
Том взглянул в ту сторону и усмехнулся.
– Вот и бабка обо мне прослышала. Ма, – сказал он, – я тебя раньше такой не видел.
Ее лицо помрачнело, глаза стали холодные.
– А мне раньше не приходилось видеть, как у меня дом ломают, – сказала она. – Мне не приходилось видеть, как всю мою семью выгоняют на дорогу. Мне никогда не приходилось продавать все до последней тряпки… Вот и они.
Она подошла к плите и переложила пышные лепешки со сковороды на две оловянные тарелки. Потом подбила мукой густое сало для подливки, и руки у нее побелели от муки. Минуту Том смотрел на мать, потом подошел к двери.
Они шли по двору вчетвером. Впереди, припадая на правую вывихнутую ногу, быстро ковылял дед, худощавый, неряшливо одетый, живой старикашка. Он застегивал на ходу брюки, и его старческие пальцы никак не могли разобраться в пуговицах, потому что он застегнул верхнюю на вторую петлю и тем самым нарушил весь порядок сверху донизу. На нем были потрепанные темные брюки и рваная синяя рубашка с незастегнутым воротом, из-под которой торчала длинная серая фуфайка. Под фуфайкой, тоже сверху расстегнутой, виднелась костлявая бледная грудь, заросшая седой шерстью. Дед оставил брюки незастегнутыми и занялся пуговицами фуфайки, потом бросил, не доведя дело до конца, и стал подтягивать коричневые помочи. Лицо у него было худое, с маленькими карими глазками, бедовыми, как у непоседливого ребенка. Сварливое, капризное, озорное, смеющееся лицо. Дед с молодых ногтей был забияка, спорщик, любитель соленых шуток и по сию пору остался все таким же старым греховодником. Злой, жестокий и нетерпеливый, как ребенок, и вдобавок ко всему весельчак. Он слишком много пил, когда дорывался до спиртного, слишком много ел, если было что поесть, и любил поболтать.
За дедом ковыляла бабка, ухитрившаяся прожить до глубокой старости только потому, что она была такая же злющая, как и ее старик. Бабка отстаивала свою независимость с яростью фанатика, не уступая деду в буйстве и греховности. Однажды после моления, еще не придя в себя как следует и разговаривая на разные голоса, она разрядила в мужа двустволку и почти начисто снесла ему одну ягодицу. Это так восхитило деда, что он, мучивший ее раньше, как дети мучают букашек, в дальнейшем прекратил озорство. Подобрав до колен широкое платье, бабка шла и повторяла пронзительно блеющим голосом свой боевой клич:
– Сла-ава Господу Богу!
Дед и бабка ковыляли по двору наперегонки. Они воевали друг с другом всю жизнь и любили эту войну, не могли существовать без нее.
Позади них, не отставая, ровным неторопливым шагом шли отец и Ной. Ной – первенец, высокий, какой-то странный на вид, с недоуменно-задумчивым и в то же время спокойным выражением лица. Ной никогда в жизни не выходил из себя. Он смотрел на горячившихся людей с удивлением – с удивлением и с чувством неловкости, как смотрит на сумасшедших здоровый человек. Движения у Ноя были размеренные, говорил он редко, а если говорил, то так медленно, что его часто принимали за дурачка. Но он был не глупый, только со странностями. Он не знал, что такое гордость, не испытывал влечения к женщинам. Он работал и спал, и это раз и навсегда заведенное чередование работы и сна удовлетворяло его. Ной любил семью, но никак не проявлял своей любви. Со стороны трудно было сказать, в чем тут дело, но он производил впечатление человека, в котором что-то неладно: то ли в форме головы, то ли в туловище, то ли в ногах, а может быть, и в мозгу. Но придраться к чему-нибудь определенному было трудно. Отец знал, почему старший сын у него не такой, как все, но стыдился говорить об этом. Потому что в ту ночь, когда Ной должен был появиться на свет, отец, оставшись один с роженицей, с этим несчастным, исходившим криками существом, обезумел от страха. Руки отца, его сильные пальцы, словно клещами, вытащили ребенка из чрева матери и помяли его. Запоздавшая повивальная бабка увидела, что головка у новорожденного бесформенная, шея вытянута, тельце покалечено. И она вправила ему шею и словно вылепила руками его тело. Отец не забыл этого случая и стыдился говорить о нем. И он был мягче с Ноем, чем с остальными детьми. В скуластом лице старшего сына, в его широко расставленных глазах, узком подбородке отец узнавал помятую, изуродованную головку ребенка. Ной делал все, что от него требовалось: он умел читать, писать, считать, толково работал, но все это выполнялось без интереса; то, к чему люди обычно стремятся и чего добиваются, оставляло его совершенно равнодушным. Он словно жил в каком-то странном затихшем доме и спокойными глазами смотрел оттуда на мир. Ной был чужой в этом мире, но чувства одиночества он не знал.
Все четверо шли через двор, и дед кричал:
– Где он? Где он, черт вас побери! – И его пальцы снова принялись теребить пуговицы на брюках, потом в забывчивости потянулись к карману. И тут он увидел Тома, стоявшего в дверях. Он остановился сам и остановил тех, кто шел за ним. Его глазки злобно засверкали. – Вот, полюбуйтесь, – сказал он. – Арестант! Джоуды никогда по тюрьмам не сидели. – Мысль его работала бессвязно. – Какое они имели право сажать его в тюрьму! Я бы на его месте то же самое сделал. Какое они, сукины дети, имели право! – И тут же перескочил на другое: – Тернбулл, старый хрыч, хвалился: застрелю его, как только выйдет. Говорит, кровь во мне такая, не позволяет стерпеть. А я велел ему передать: «С Джоудами не связывайся. Может, во мне кровь еще почище твоей». Я ему пригрозил: «Ты только покажись с ружьем, я разряжу его тебе в задницу – будешь помнить!» Напугал дурака до полусмерти.
Бабка, не слушавшая, что говорит дед, тянула скрипучим голосом:
– Сла-ава Господу Богу!
Дед подошел к двери, хлопнул Тома по груди, и его глаза засверкали любовью и гордостью.
– Ну как, Томми?
– Ничего, – сказал Том. – А ты как?
– Молодого за пояс заткну, – ответил дед. Его мысль опять скакнула в сторону. – Говорил я – Джоуда в тюрьме не удержишь! Я еще тогда сказал: «Томми удерет, пробьется, как бык через забор». Вот ты и удрал! Дай дорогу, я есть хочу.
Он протиснулся в дверь, сел за стол, навалил себе на тарелку свинины и две большие лепешки, залил все это густой подливкой, и не успели остальные войти в кухню, как дед уже набил себе рот едой.
Томми с любовью смотрел на него и усмехался.
– Вот отчаянный! – сказал он.
А дед так набил себе рот, что не мог вымолвить ни слова, но его свирепые маленькие глазки улыбнулись, и он яростно закивал головой.
Бабка сказала с гордостью:
– Второго такого брехуна, разбойника ищи – не найдешь! В пекло прямо на кочерге въедет, слава Господу. Вздумал тоже – будет править грузовиком, – злобно добавила она. – Так вот, не выйдет!
Дед поперхнулся, выплюнул прямо на колени кусок непрожеванной лепешки и слабо закашлялся.
Бабка, улыбаясь, посмотрела на Тома.
– Вот неряха-то! – сказала она.
Ной поднялся на приступку, и его широко расставленные глаза словно смотрели мимо Тома. Лицо у Ноя было спокойное. Том сказал: