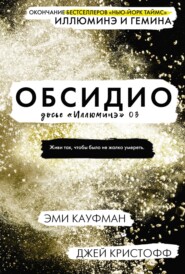По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Империя вампиров
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Справедливый вновь дико заржал от боли. Я же, чувствуя, как в груди вздымается волна знакомого гнева, обратил лицо к небу. Потом опустил взгляд на друга; по руке у меня стекала кровь, в горле сдавило, а сердце разрывалось. Он был со мной с первого моего дня в Сан-Мишоне. Мы прошли сквозь кровь и войну, огонь и ярость. Семнадцать лет вместе. Кроме него, у меня никого не оставалось. И вот теперь… это?
– Бог охереть как меня ненавидит, – прошептал я.
«Отчего, к-как ты думаешь, к-как думаешь?»
Голос прозвучал серебристо мягкими волнами у меня в голове. Я старался не слушать его, глядя на друга. Тот пытался встать на сломанную ногу, но она выгнулась под неестественным углом, и он снова рухнул, закатывая большие карие глаза. Его агонию я переживал, будто собственную.
«Ты знаешь, как д-должно поступить, Габриэль?» – снова прозвучал серебристый голос.
Я посмотрел на меч у своих ног, обнаженный и забрызганный грязью. Эфес на две руки в кожаной оплетке, посеребренная гарда в форме прекрасной дамы, раскинувшей руки. Клинок имел плавный изгиб, в духе старинных тальгостских традиций, наделенный смертоносным изяществом. Выкованный из темного чрева упавшей звезды еще в Легендарную эпоху. Правда, он был сломан – много, как теперь кажется, жизней назад.
«Не хватает шести дюймов острия».
– Заткнись, – велел я голосу.
«Они его учуют, р-разорвут на части, точно говорю, хлынет кровь, горячая и липкая, а он будет ржать, ржать и рж-ж-ж-жа-а-а-ать. Окажи ему величайшую милость».
– Зачем ты всегда говоришь мне то, что я и так уже знаю?
«А з-зачем ты всегда этого ждешь?»
Я заглянул в глаза своему коню, забыв о боли в сломанной руке. За прошедшие годы из всех, кого я называл другом, остался только Справедливый. Сквозь боль и страх, в темнейшие свои часы он всегда смотрел на меня, своего Габриэля. Того, кто повстречал его мальчишкой в конюшне Сан-Мишона, кто выехал на нем, когда никто из так называемых братьев не вышел проститься. Он доверял мне и, несмотря на боль, верил, что я как-нибудь все исправлю.
Я пронзил его мечом в самое сердце.
Не самый быстрый конец, какой я мог даровать ему. У меня был заряженный пистолет, но до наступления ночи оставалось всего два часа, до Гахэха идти пешком предстояло по меньшей мере час. Порченые наверняка уже летели к нам, точно мухи, а всадник без коня для них – готовая пища.
Уж лучше быть сволочью, чем дураком.
И все же я остался со Справедливым, пока он умирал. Истекая кровью прямо в грязь, он тяжело опустил голову мне на колени. Небо потемнело, а мои горячие слезы мешались с ледяным дождем. Свой сломанный двуручник, обагренный яркой кровью друга, я воткнул в землю. Снова глянул наверх, зная, что Бог смотрит в ответ.
– Падла, – сказал я ему.
«Г-габриэль», – прошептал у меня в голове меч.
– И ты падла, – зашипел я на него.
«Габриэль», – уже настойчивей повторил он.
– Чего? – Я гневно воззрился на клинок. В горле сдавило. – Можешь дать мне хотя бы секунду, чтобы оплакать его, сука ты нечестивая?
Когда меч заговорил снова, у меня застыла кровь в жилах.
«Габриэль, они ид-дут».
II. Три способа
Мелкий мальчишка бежал первым. Ему было не больше шести, когда он стал таким. Двигался резво, как олень, мчался по долине прямо ко мне. Следом неслись остальные: светловолосая женщина и двое мужчин, худой и коренастый. В стае теперь было десятка два порченых, не меньше.
Я, охнув, поднялся на ноги. Сломанная рука болталась плетью, и когда я снимал с коня седельные сумки и прятал сломанный меч в ножны, боль вернулась. Я простился с несчастным братом и побежал в сердце долины, туда, где вилась далекой лентой дорога. За ней еще три мили – и брод. Шансов оторваться от порченых было мало, но я знал, что мимо Справедливого они не пробегут. В воздухе густо витал аромат его крови, скопившейся в лужах грязи. Шавки вроде этих устоять не смогут.
Я уже ощущал трясучку: жажду, от которой сбивалось сердце и крутило в животе. Запинаясь и чуть не поскальзываясь, я выхватил из бандольера фиал: на донышке оставалась всего щепотка порошка цвета розовых лепестков и шоколада; от нетерпения рука у меня задрожала еще сильней, а стоило запустить ее в карман пальто, как сердце ушло в пятки: огниво пропало.
– Шило мне в рыло… – прошептал я.
Я пошарил за поясом, в других карманах пальто, хотя результат уже знал: огниво потерялось, когда я вылетел из седла. Шансы оторваться все уменьшались.
Я побежал, сунув сломанную руку за бандольер и морщась от боли. Со временем кость должна была срастись сама, но порченые этого времени мне давать не собирались. Одна надежда была на реку, да и то крошечная. Если бы меня настигли, я сгинул бы, как Справедливый.
Жан-Франсуа оторвал взгляд от книги.
– Ты так сильно боялся их?
– Кладбища этого мира полнятся идиотами, которые считали страх своим другом.
– Похоже, что легенда о тебе, переходя из уст в уста, расцветала новыми красками, де Леон.
– Как и любая легенда. И краски всегда не те.
Вампир убрал со лба золотистые кудри и окинул широкие плечи Габриэля взглядом темных глаз.
– Говорят, ты самый грозный мечник из живших на свете.
– Я бы не стал заходить так далеко. – Угодник-среброносец пожал плечами. – Скажем так: будь у меня под рукой что-нибудь острое, показывать мне папаш ты бы не захотел.
Вампир удивленно моргнул.
– Показывать папаш?
Габриэль вскинул правую руку, растопырив пятерню, и накрыл предплечье ладонью левой.
– Старинный оскорбительный жест северян. Подразумевает, что твоя мама делила постель с кем ни попадя, поэтому уже никак определить, кто твой папаша. А оскорбить мою мама – верный способ получить от меня удар острием в рожу.
– Тогда что же ты бежал? Образцовый воин Серебряного ордена, хозяин Пьющей Пепел, бежал, как выпоротый щенок от стаи грязнокровок.
– Закон третий, вампир.
Жан-Франсуа склонил голову набок.
– Нежить быстронога.
Габриэль кивнул.
– Этих уродов собралось два десятка. Я сломал рабочую руку минимум в двух местах и, как я уже сказал, никак не мог покурить.
Жан-Франсуа взглянул на костяную трубку, что лежала на столике.
– Значит, ты полагался на санктус?