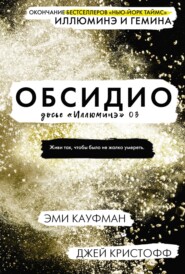По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Империя вампиров
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дошло наконец, холоднокровка?
Габриэль поскреб щетину на подбородке, провел рукой по волосам и продолжил:
– Я стянул сапоги и подставил ноги огню. Уже доставал трубку, когда рядом возникла прислужница.
– Вам удобно, adii? – спросила она с легким зюдхеймским акцентом.
Я же, подняв взгляд, увидел темные распущенные волосы, зеленые глаза. Стрельнул взглядом на портрет за стойкой.
– Это моя мама, – объяснила девица с легким оттенком обиды в голосе. Видимо, ей часто приходилось это говорить. Она кивнула в сторону женщины за стойкой: та была в теле, на двадцать лет старше дочери, но портрет явно писали с нее. Я даже мельком подумал, не сохранилось ли у нее боа.
– Еды, – сказал я девице, возясь с трубкой. – И комнату на ночь.
– Как угодно. Выпить?
– Виски? – с надеждой спросил я.
Она фыркнула, закатив глаза.
– Это что, по-вашему, замок лэрды [11 - Лэрд – титул, аналогичный английскому лорду.]?
Я даже немного восхитился девчонкой: она посмела мне грубить, тогда как парни из ополчения спасовали, как при плохой сдаче карт. А вообще, мне с каждым мгновением становилось все паршивее.
– Тут и впрямь не замок лэрды, а ты – совсем не леди. Так что, мадемуазель, закатай губу и просто говори, что у вас есть.
– То же, что и у остальных, adii, – уже холоднее сказала она.
– Мне, сука, водки.
– Ладно.
– Бутылку уж тогда, – сердито уточнил я. – Поприличней. Не какие-нибудь там помои.
Девица изобразила небрежный книксен и развернулась. Мне надо было сразу понять, прежде чем спрашивать: к тому времени напитков из злаков сыскать было так же трудно, как и честного человека в исповедальне. После начала мертводня фермерам оставалось выращивать только то, что могло выжить при скудном свете убогого солнца: капусту, грибы и, конечно, опротивевшую картошку.
Последний Угодник вздохнул.
– Ненавижу, сука, картошку.
– Почему?
– А ты поешь каждый день одно и то же, холоднокровка, и оно тебе поперек горла встанет.
Жан-Франсуа изучил свои длинные ногти.
– Ни разу еще не слышал аргумента против таинства брака лучше, Угодник.
– Девушка принесла мне выпивку, и я кивнул в знак благодарности. Остальные посетители вернулись к своим разговорам, делая вид, будто не замечают меня. В таверне было людно, и среди местных, зюдхеймцев, я заметил иноземцев с бледной кожей, в грязных килтах и с отчаянием в глазах: беженцев из Оссвея, спасавшихся, скорее всего, от войны на севере. Впрочем, мое появление уже не так смущало, и я потянулся за флаконом в бандольере.
Обычно я на людях не курю, но меня от потребности как будто свинцом придавило. Я отсы?пал себе щедрой дозы, потом взял бутылку из-под вина с кровокрасной свечой и поднес к огню трубку.
Курить санктус – это целое искусство. Поднеси его слишком близко к огню, и кровь сгорит. Будешь держать слишком далеко – и она будет плавиться слишком медленно: не испарится, а потечет. Зато если все сделать верно… – Габриэль покачал головой, поблескивая серыми глазами. – Боже Всемогущий, если все сделать верно, то сотворишь настоящую магию. Вкусишь блаженство ярко-красного рая. Наплевав на чужие взгляды, я приник к мундштуку. Кровь была наихудшего качества: слабая, как жиденький бульон, но все же стоило дыму коснуться моего языка, и я вернулся домой.
– На что это похоже? – спросил Жан-Франсуа. – Любимое таинство святой Мишон?
– Словами не передать. С тем же успехом слепой может попытаться описать радугу. Вообрази момент, первую секунду, когда ты проникаешь между бедер возлюбленной. Спустя час с лишним службы у алтаря, когда все уже прошло своим чередом, а в ее глазах не осталось ничего, кроме желания, и вот наконец она шепчет заветное слово «давай». – Габриэль покачал головой, глядя на трубку на столике. – Возьми это блаженство, умножь его стократно и, возможно, получишь нечто отдаленно похожее.
– Ты говоришь о санктусе, как мы говорим о крови.
– Первое – таинство Серебряного ордена. Второе – смертный грех.
– Не лицемерие ли это? Ваш орден охотников на чудовищ столь сильно зависел от крови так называемых чудовищ, которых сам же истреблял.
Габриэль подался вперед, уперев локти в колени. Длинные рукава блузы задрались выше запястий, обнажив татуировки на предплечьях: Манэ, ангел смерти, Эйрена, ангел надежды. Работа была великолепной, а сами чернила поблескивали в свете лампы серебром.
– Мы были сыновьями своих отцов, холоднокровка. Наследовали их силу, скорость. Отмахивались от ран, которые обычного человека свели бы в могилу. Но тебе ведь знакома ужасная жажда, наше проклятье. Санктус – средство, чтобы унять ее, при этом не поддаваясь нужде или безумию, в которое мы впали бы, отрицая ее вовсе. Нам нужно было хоть что-то.
– Потребность, – произнес Жан-Франсуа. – Слабость твоего ордена, Угодник.
– У каждого внутри есть пустота, – вздохнул Габриэль. – Можно попробовать заполнить ее чем-нибудь: вино, женщины, труд… Однако дыра остается дырой.
– И ты рано или поздно заползаешь назад, в ту дыру, которую облюбовал, – подсказал вампир.
– Очаровательно, – пробормотал Габриэль.
Жан-Франсуа поклонился.
– Едва дым коснулся моих легких, – продолжил Габриэль, – я увидел все в комнате предельно четко. Я ощущал на себе взгляды других посетителей, слышал каждый их шепоток. В очаге пело пламя, по крыше барабанил дождь. Усталость спала с меня, как промокший до нитки плащ. Рука перестала болеть. Я весь ожил: вкус, осязание, запахи, зрение…
А потом, как всегда, вместе с чувствами обострился и ум. Тяжесть событий дня ударила по мне молотом. Я будто снова увидел бедолагу Справедливого, услышал в голове его ржание. Лица солдат, брошенных на смерть, инквизиторшу, которую подстрелил. Руины, оставшиеся позади, и следующую по пятам тень. Страх. Боль. Все это усилилось. Кристаллизовалось.
Тогда я приложился к бутылке. Накормив зверя, я хотел забыться. Залпом осушил ее на четверть и за несколько минут допил остатки. Закрыв глаза, я почти задремал, а алкоголь во мне боролся с кровогимном: черное заливало красное, и я тонул в сладостной тихой серости.
Я пил, чтобы забыть.
Пил, чтобы не чувствовать, не видеть и не слышать ничего.
А потом кто-то позвал меня по имени.
– Габриэль?
Этот голос я не слышал уже много лет, и сейчас мысленно перенесся в дни своей молодости. Дни славы. Дни, когда имя мое выкрикивали, будто боевой клич, когда я просто не мог оступиться, когда нежить говорила обо мне со страхом, а простолюдины – с благоговением.
– Габи? – снова раздался этот голос.
Тогда все – и люди, которых я вел, и пиявки, которых мы жгли и резали, – звали меня Черный Лев. Моим именем матери нарекали детей. Сама императрица посвятила меня в рыцари. За несколько лет на службе в Ордене я и правда подумал, что мы побеждаем.
– Семеро мучеников, это правда ты…