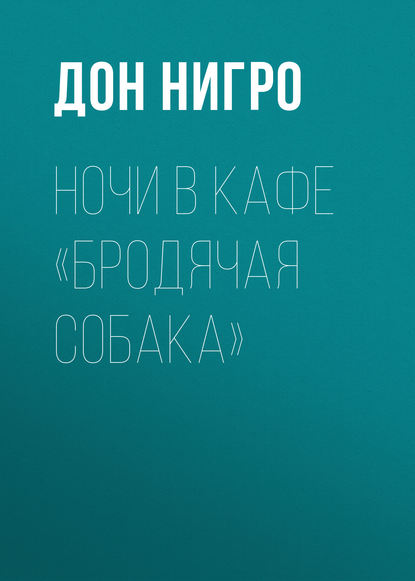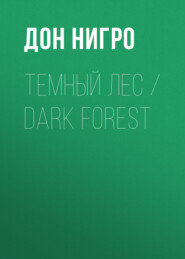По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ночи в кафе «Бродячая собака»
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
БЕЛЫЙ. То есть она играла с тобой.
АННА. Я с ним не играла. Я была выше этого.
ОЛЬГА. Чуточку ты с ним играла.
ГУМИЛЕВ. Поэтому я вновь выпил яда.
ОЛЬГА. Не мог найти более интересного способа покончить с собой.
ГУМИЛЕВ. Например?
ОЛЬГА. Подложить голову под слона.
ГУМИЛЕВ. Слона у меня не было. Немного яда осталось. Не пропадать же добру.
МАНДЕЛЬШТАМ. Российская логика.
(ГУМИЛЕВ вновь пьет из бутылки. ХЛЕБНИКОВ успевает принести ведро, в которое ГУМИЛЕВА и рвет).
АННА. Болел он тяжело, но все же не умер.
ЛЮБОВЬ. И тогда ты согласилась выйти за него?
АННА. Я предложила ему найти яд получше. Если по правде, это ужасно, быть столь сильно любимой. Но как только я сказала «да», он сбежал в Аргентину. Что с мужчинами не так?
ОЛЬГА. Практически все. Поэтому я предпочитаю кукол. Иногда я разговариваю со своими куклами, и они отвечают мне тоненькими голосами. И ты можешь сунуть руку им в зад и заставить сказать все, что ты хочешь.
МЕНДЕЛЬШТАМ. Совсем как Сталин.
ГУМИЛЕВ. У нас тысяча девятьсот десятый. Сталина еще нет.
КНЯЗЕВ. У нас тысяча девятьсот тринадцатый.
БРИК. У нас тысяча девятьсот тридцатый.
ХЛЕБНИКОВ (смотрит на карманные часы). У нас тысяча девятьсот двадцать второй. Я скоро умру.
МАНДЕЛЬШТАМ. Мы в кафе «Бродящая собака». Здесь сосуществуют все годы и пространства.
АННА. Я думаю, в действительности ничего этого не было. Или случилось, но очень давно, и помню я это смутно, как сон.
БЛОК. Как палимпсест. Плохо стертая восковая дощечка. На которой виден ранее нанесенный текст.
МАНДЕЛЬШТАМ. На самом деле мы не обретаем опыт последовательно. Есть определенная последовательность, в которой мы вроде бы обретаем опыт, но даже она безвозвратно нарушается памятью, и искажениями восприятия, и пониманием, созданным желанием и страхом. Это смесь прошлого, настоящего и будущего, прохудившейся памяти, настоящего, которое уходит до того, как мы успеваем познать его, и будущего, которое, став настоящим, оказывается куда более ужасным, чем мы могли его себе представить. Воображение – та самая способность, позволяющая нам опосредственно увидеть несколько возможных будущих, которые потом сливаются в отчасти забытое и по большей части необъяснимое прошлое. К нему у нас доступ только через память, которая есть воображение, загрязненное опытом и страдающее вновь и вновь в губительной хватке с безжалостной и в немалой степени искаженной ностальгией, а она, на самом-то деле, ни что иное, как агония. Только смерть может положить конец этой нелепой клоунаде. По крайней мере, на это можно надеяться.
ТАМАРА. Обожаю Мандельштама. Никогда не понимаю и слова из сказанного им.
МАНДЕЛЬШТАМ. Это единственный способ остаться здесь живым.
ГУМИЛЕВ. Мы словно бродячий цирк. Маяковский – ведущий представления.
ОЛЬГА. Клоуны. У нас должны быть клоуны.
ТАМАРА. Я боюсь клоунов.
МАНДЕЛЬШТАМ. Это Россия. У нас слишком много клоунов.
ОЛЬГА. В этом месте время ведет себя так странно. Я помню многое в переплетенье образов. Теплый дождь, барабанящий по крыше. Что-то шепчущее в ивах. Белый зал зеркал. Расплескавшиеся кровь и мозги на обоях с розами. Мертвец на лестнице. Как его звали? Анна, как звали мертвеца на лестнице?
АННА. Я не помню.
КНЯЗЕВ. Оставайся в игре или умри[4 - Всеволод Князев (1891-1913) покончил с собой из-за неразделенной любви к Ольге Судейкиной.].
Картина 3
Периодическая таблица Менделеева
(Появляется МЕЙЕРХОЛЬД. ЛЮБОВЬ, писаная красавица, готовится к прослушиванию. ТАМАРА и ОЛЬГА держат ее за руки. МЕЙЕРХОЛЬД останавливается, чтобы перекинуться парой слов с МАЯКОВСКИМ. БЛОК и БЕЛЫЙ, сидя за одним столиком, наблюдают).
ТАМАРА. Люба, Мейерхольд здесь. Пришло время прослушивания.
ЛЮБОВЬ. Я не могу. Я в ужасе.
ТАМАРА. Не надо ничего бояться. Кроме клоунов. И медведей. Я боюсь медведей.
ЛЮБОВЬ. Но это Мейерхольд. Он – помощник Станиславского.
ОЛЬГА. Они оба отливают стоя, как и все остальные мужчины. Хотя я слышала, будто Распутин может писать из ушей.
МАЯКОВСКИЙ. Чего ты так поздно?
МЕЙЕРХОЛЬД. Со мной пожелали поговорить в Че-ка. Ничего страшного. Им просто надоело заниматься онанизмом. У меня еще одно прослушивание. Жены Блока.
МАЯКОВСКИЙ. Зачем тебе прослушивать жену Блока?
МЕЙЕРХОЛЬД. Делаю одолжение Блоку. Ты что-то имеешь против?
МАЯКОВСКИЙ. Нет. Она красотка, но умеет ли играть?
МЕЙЕРХОЛЬД. Мы это выясним.
ЛЮБОВЬ. Я – Люба Блок. Я пришла для прослушивания на роль Лорелей.
МЕЙЕРХОЛЬД. Я слушаю.
ЛЮБОВЬ. Почему я так несчастна? Что-то шепчет у меня в голове, не дает покоя. Воздух вечером прохладен. Мимо струится Рейн. Вершина горы освещена последними лучами солнца. Лорелей сидит, расчесывая длинные, золотистые волосы… (ОЛЬГА расчесывает ее волосы, напевая мелодию «Интернационала». КНЯЗЕВ, как зачарованный, не отрывает глаз от ОЛЬГИ). Ее песня – те же чары. В утлом суденышке поэт охвачен отчаянием. Не может оторвать глаза от Лорелей, не замечает скал, на которые течение несет его суденышко. Вода проглатывает их, и поэта, и челн. Такой мужчины видят меня, колдуньей, а не женщиной, чтобы боготворить на расстоянии, может, даже бояться, но никаких прикосновений. Словно прикосновение это превратит их в камень. Я не хочу быть символом. И при этом моя судьба – завлекать мужчин на встречу со смертью.
МЕЙЕРХРЛЬД. Очень хорошо. Отлично. Спасибо, что пришли. Мы с вами свяжемся.