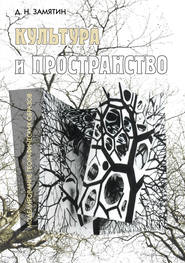По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Инспектор земных образов. Экспедиции и сновидения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Регионализм снимает с пространства «кожуру» осторожности мест, районов, территорий, старающихся как бы размазать собственные ландшафты вне времени какой-либо эпохи. В сущности, регионализм не стремится к порождению конкретной метафизики территории – он лишь определяет рамки, фреймы пространства, округляющего, образующего, видящего свои собственные очертания и конфигурации.
Место оставляет шансы пространству раскрыться внутренним ландшафтным разнообразием. Оно – если говорить начистоту – превращает однообразные и унылые протяженности в траектории пространственных событий, обязанных бытию прежде всего благотворным сосуществованием совершенно различных экзистенций. Место – событие пространства, в котором ландшафт находит себя как несомненное, укорененное и полное бытие-здесь.
Китай – цивилизация, не видящая пространства вне общего, высшего ритма Бытия; отсюда и отсутствие пространства как ландшафтной основы временных последовательностей. Предлагается просто-таки ментальный разрыв между насыщенной пустотой Неба и банальной размещенностью Земли в сакральных геометрических конструкциях. Но это же дает Китаю как цивилизации право и силу на чистоту и красоту метагеографических построений личностных и коллективных миров.
Жизнь – это соглашение между Бытием и его коррелятами, пространством и временем. Но главное: распространение, продолжение, воспроизводство жизни означает развитие и «раскручивание» протяженности как атрибута некоего глкбокого, серьезного «механизма» Бытия. Пространство должно как бы само себя видеть посредством постоянно нагнетаемой и разрастающейся протяженности – наиболее явного символа экзистенциальности самого Бытия.
Китайская мысль поглощает пространство как ненужную достопримечательность бытия, не ориентированного на резкое разграничение и отдаление Неба и Земли. В ней всякое место обретается и утверждается с помощью ритмических структур-событий, соответствующих всякий раз образу пространства-времени без ландшафтной судьбы. Тем не менее, географические образы формуют и формируют китайскую мысль как трансверсальную ментальность, расширяемую любой графической инновацией, находящейся в поле притяжения Земли.
Дождь как аффектированное событие пространства. Линии водяных струй не нарушают общей картины дачного пейзажа (открытая теплица, валяющиеся на траве игрущки, куча песка, полузаброшенные грядки), но рассекают, разделяют тело ландшафтного бытия на фрагменты вполне целостных географических образов, важных самих по себе. Может быть, дождь – гео-поэтическая картина распада неосмысленной дотоле местности, становящейся дождем, через дождь, сквозь дождь своим собственным дистанцированным образом. Дождь: это когда бытие пытается «потрогать» самоё себя посредством «влажной» телесности ландшафта.
Дождь, Средоточие пространства, Повисшего на водосточной трубе
Ассоциативный ландшафт растворяет пустоты и лакуны несосредоточенного, полузабывшего себя пространства, формируя пределы тех протяженностей, которые обеспечивают необходимые для ощущения полноты сущего образные дистанции. Места творятся как ассоциативные ландшафты лишь в том случае, когда время осознается как безусловная локальная уникальность или особенность.
Напитываться пространством – значит пытаться разместить самого себя как «ландшафт» – ландшафт, чей дискурс есть перемещаемое по ходу дела, по ходу пути, путешествия в?дение границ мест, не обладающих этими границами «изнутри» (их нет). Другими словами, нужно опространствлять свою траекторию движения, как бы вырезанную, вынутую предварительно из времени самого ландшафта (как если бы я ехал в автомобиле с тонированными темными стеклами, меня внутри не видно, но я вижу снаружи всё).
Ночное небо, чья глубина, бесконечность, длительность разрывают континуум бытия на отдельные пространственные анклавы забытья, безбытия, небытия. В ночном небе взгляд обнаруживает предельно внутреннее пространство, в котором проникающие острия звезд, тяжелые темные облачные массивы, неестественная желтизна полной мышино-сырной луны раскрывают природные длительности как очевидные и бесспорные ментальные протяженности.
В сумерках китайской каллиграфии. Тут уже нет речи о ясной и безупречной графике плоскостного и растекающегося во все стороны в?дения; это, скорее, видение полупространственных, полувременных образов, организующихся траекториями кистей, росчерками туши как металандшафтные конструкции, долженствующие показать и представить пространство вне бытия, пространство после бытия. И так-то китайская каллиграфия утверждает протяженность и длительность любого места, собы-тийствующего самому Бытию.
Крыши домов и сараев, уверенные и неуверенные, ржавые и хорошо покрашенные, блестящие и не очень, прохудившиеся и совершенно надежные. Закрывают ли они от Неба, или же они приоткрывают плотную сущность Земли? По крайней мере, крыши декларируют своим присутствием, своими разнообразными очертаниями подлинную геоморфологию срединности, промежуточности, перевальности, передышки; их можно трактовать как географические образы окаменевшей, застывшей невесомости, дающей знать о тайных, скрытых связях Земли и Неба.
Ветер важен не сам по себе, но как отсутствие небесно-зем-ной гармонии, постоянства, устойчивости. Он обнаруживается пригибающейся травой, шелестом листьев, улетающей газетой, внезапным холодком потускневшего фрагмента Бытия. Но есть ли он непосредственный, прямой разрыв Бытия, или только лишь метафизическое свидетельство хрупкости внешне спокойных и устойчивых ландшафтов? Может быть, ветер диктует – так или иначе – рельеф и трансфигурации воздушных пространств, обреченных тем самым быть косвенными указаниями на сложные, непростые ритмы метагеографических длительностей и протяженностей. Время, чувствующее свое «тело» как очевидную ландшафтную лакуну, прореху, пустоту – вот ветер как метагео-графическое событие.
Ландшафтная полнота как символ пространственной поверхности, обозримой сразу со всех точек зрения, из всех мест, составляющих своими образами расстояние идеального ландшафтного взгляда и чувства.
Русское мышление рассматривает пространство как возможность средоточия ментальных образов, описывающих расхождение, отдаление мест и местностей, которые представляют собой замкнутые событийные точки – топосы, лишенные классической ландшафтной оболочки.
Пространство в русской мысли обретает свои корни там, где Бытие упирается в становление пустотности полуосвоенного, недоосвоенного, параосвоенного ландшафта, не управляющего своими образами, а «разбрасывающего» их беспорядочно как непоследовательные и «недоделанные» события. Бытие-здесь не размещается как онтологическое рас-стояние Бытия-там; они одновременны, но тем самым временные длительности скрадываются, распадаются, превращаются в протяженные сосуществования здесь-и-всегда.
Сидя у окна с книгой. Игра утреннего солнечного света, ветреных лиственных теней на раскрытом книжном развороте – среди букв, слов, предложений – на поверхности объемной, допускающей перетекание дрожащего, изменчивого, подвижного, солнечного света в пространство уютного и светлого текста, переливающегося в шелестящих лиственных тенях, «командируемых», посылаемых через окно покачивающейся молодой березкой. Может быть, это «срединное» пространство еще шире, объемнее – за счет сохранения, преображения летящих, возникающих, исчезающих трансфигураций светотеней уже в самой записной книжке, где я пытаюсь нащупать, зарисовать некие образные иероглифы обживаемого места. Свет полощется сквозь листья на моей руке, на движущейся по строке авторучке, пространство самого места географизируется ландшафтной стенографией образного потока, округляющего, сферизующего со-бытие Бытия.
Окно исторгает из себя пространство, заключающее уместность всякой пустотной, опустошаемой экзистенции. Любое существование «через» окно, посредством окна – закрытого, открытого – обнаруживает свое собственное отчужденное, дис-танцированное в?дение – таким и только таким географическим образом, ограниченным и отграниченным от внепространственного и вневременного поначалу Бытия.
Опространствление Бытия – вот что интересует меня. Как Бытие может становиться пространством, где вновь возникающая геоморфология дает право бытийствовать географическим образам, или же способствовать «ландшафтизации», ландшаф-тизированию проживаемого, переживаемого, проходимого времени? Вообще, в целом: стоит ли бороться с пустотностью, «ни-чтойностью» Бытия посредством ее отрицания, отвержения как простого и обыденного рас-стояния, взятого в процессе его преодоления?
Старая садовая тачка в траве, с пятнами ржавчины на дне, рядом с яблоней. Образ полузаброшенного Бытия, окруженного пространством деловитости, отчуждения, равнодушия. Как быть с этим ландшафтом, в этом ландшафте без места, специально «оборудованного» обжитостью, освоенностью, прирученной невзначай пространственностью?
Маленький мальчик сидит в песке, пересыпает в ладошке песочное Бытие. Никого поблизости нет, послеполуденный покой, забвение времени, забытье пространства. Ландшафт есть одиночество сосредоточенного взгляда.
Порядок вещей – как он был увиден впервые. Пространство бегущего самозабвенно ребенка – как оно было пронизано светом. Время мокрой утренней травы – как оно было охвачено жизнью.
Я нахожусь в сердце пространства.
Театр Чарльза Дарвина
Воскресенье, суббота, выходные. Немыслимое спокойствие, невозможное в присутствии осени, домашнего хаоса, детских криков и смешных разговоров. Короче: спрятаться некуда, остается только созерцать внутренние сферы доматериального, воздушного опыта.
Ощущение каменного мешка, забытость, заброшенность. Кругом книги – великолепные, качественные, классические, современные. Библиотека внушает иногда неоправданные мечты, но чаще – веру во всесилие графических знаков, письма, текста –
направленных в пространство ожиданий, предуведомлений, преддверий.
Не полагая открытий вовне, но и не числя их внутри, в некой внутренней полости сознания. Духота настоящего есть охват времени как географического открытия, как того, что раскрывается разом, во все стороны прошлого, а будущего еще нет как сочленения радужных проектов и пессимистических, эсхатологических опасений. Так проявляется простота столичных и псевдостолич-ных буден, в центре какой-то, может быть, ничьей истории, растерянной множеством бесхарактерных и бесхребетных, раскатившихся как горошины в разные стороны, событий.
…Но и не полагая сомнений, расстройств по поводу окружающего меня самодовольного, хаотического ландшафта, пышаще-го жаром уже прошедшего, уже проезженного, проплытого времени. Ведь весь эпос вечности и состоит-то из микроскопических мелочей незаметных для самого себя решений, поворотов мысли, случайных сиюминутных взглядов и настроений. Но тогда и не стоит переживать: само пространство, растекаясь временной случайностью, думает, воображает мной – и всяческие многозначительные онтологии ландшафтов тут ни при чем.
…Но и так – как если бы я мог залучиться поддержкой сокровенного, упрятанного хорошо места, его ауры – стоит ли говорить о времени, облегшем, охватившем почти весь расширившийся донельзя горизонт бытия, горизонт нескромного шевеления желаний, устремлений, мечт, вожделений? Время не может быть формулой упрощенного мусором размельченного бытия ландшафта. Проще сказать: разместить бытие невозможно, не рискуя тяжелой потерей расходящихся, разбегающихся временных интервалов, сопутствующих ландшафтных ритмов и сотрясений. Так-то место обращает вспять течение незаконного, полулегального бытия, чье пространство – вне справедливости ландшафтных кругозоров и окоемов. Пятно времени лишь самым крайним краем застигает, захватывает место пребывания уходящей мысли, воображения, не видящего границы бытия с самим собой, грани-цы-между-собой. Быть внутри места – не значит быть умещенным в бытии, размещенным бытием.
Устать как бы сразу – увидев полет бабочки, стремящейся в потоки восходящего пространства, воздуха, не таящего свою ландшафтную, небесную мощь и силу. Невозможность подняться вне места, означенного как место воздуха, как точка и локус, отягощенные очертаниями бесцветного и незаметного в своем неразличении (самого себя) бытии. Так вот: ожидание простора собственных решений на фоне упавшей бабочки с поврежденным крылом, осыпавшейся пыльцой, еще подрагивающей безнадежно – это ожидание затягивается пасмурным серым небом, тянущим одеяло географического воображения к месту, где полет, взлет, парение смотрятся как простейшее течение, перетекание самого тела уточненной точечной мысли.
Не требуя ландшафта – скорого, с пылу с жару, самодовольного, самоуспокоенного.
Не требуя ландшафта отчаянного, фронтирного, зависающего на лету, «гусарского».
Не требуя ландшафта сосредоточенного, углубленного, медитирующего – короче, может быть, «фрактального».
Пытаясь осознать ландшафт-как-он-есть, ландшафт как мысль, приземленную своей собственной небесностью.
Пытаясь научиться ландшафту как школе размещенного кругозора – окоема, раскинутого протяженностью и пространством внутренней перспективы.
Пытаясь воображать ландшафт птицей, севшей на качающуюся ветку собственного бытия-полета.
Ландшафтом заземлить ток сумасбродных облаков, затеняющих рельеф самого воздуха.
Продвигаясь по городу моих рассуждений и предположений. Разбитый асфальт, мусор на каждом шагу, толпы разлитого равнодушия.
Не смущаясь, не отрицая среды полной пустоты, улиц растянутого, как плохие чулки, сожаления; окон скукоженных домов, не держащихся за свое – якобы – место.
Сосредотачиваясь сплошным шумом жаркого, потного, суматошного городского лета; говором тающего цветного мороженого, обрывками наглых автомобильных междометий и глосс.
Город, чудовище всех бездонных поколений укрощенного – временно – пространства; пространства, чей миф не стоит и шага почти остановленного открытыми горизонтами бытия.
Горизонт – забытый, загубленный, заслоненный нахрапом места, не обладающего никакими регалиями предельной про-странственности.
Здоровенная трехлитровая пустая банка на балконе – стоит как совершенная китайская ваза, самоценная в своей единственной размещенности на фоне беспорядочной улицы внизу, сознания, обретшего свое неразменное пространство; вдохновения ландшафта, просвечивающего очень ясно и точно сквозь обычное зеленоватое стекло.
Театр Чарльза Дарвина
Висение, повисание на нитках Бытия. Воздух бытия осознается в этом повисании строго по вертикали, вращаясь, как цветной продолговатый детский кубик. В сущности, и вся жизнь может расцениваться как вращающийся, застывающий момент нематериальной, воздушной точки зависания, восторга, восхождения.
В «Происхождении видов» Дарвина заметно стремление автора раскрыть свою собственную пытливость посредством обращения к дискурсу, чей облик напоминает не столько картезианские протяженности, сколько глубокие, глубинные земляные шурфы, некое ментальное почвоведение, в котором всякая мысль расширяется, как ни странно, оригинальным утончением, уточнением, дополнительной вертикализацией, захватывающей и пространство научно-письменной наррации. Текст Дарвина «плывет», будучи географическим образом речного течения, направленного в каждой точке одновременно и «вперед», и «назад».
Стена дома наискосок, под лучами низкого вечернего солнца. Отколовшиеся мелкие плиточки, лакуны старого крупитчато-серого «бетонного» покрытия. Не архаика и поэзия разрушения и запустения, но барельефный ландшафт мелкого неизвестного мира – не инопланетного, а земного и трансверсального. Это просто топографическая карта пространства, не сильного прорастающей острой сорной травой, а гордящегося застывшей пеной стенной вечности, вообразившей себя образом быстротекущего времени. Шероховатые тени, плоящие вечернюю стену как место, лишенное благоприятности эмпирического комфорта, удобства, отдыха. Я всматриваюсь (тщетно) в эту стену, надеясь с вечерними тенями увидеть скрытое гнездо сумерек и утерянную границу осенней ночи – ночи, воспользовавшейся разнеженностью и просторным, раскинувшимся бесстыдством бабьего лета.
Сцены драматической игры-борьбы живых организмов в «Происхождении видов». Это-то и есть драматическая топография жизни, обреченной растекаться, раздваиваться, разлагаться и в то же время обретаться пространством волнового движения, турбулентности, беспокойства, поддерживающего внутренний разум и осторожность бессмысленной и немыслимой «природы». Как развивается тело, его органы, приспособления, как изменяется среда – по сути, то же животное тело, воображающее себя экзистенцией или мощью самого рельефа телесных инспираций и замыслов. Лист, волна, океан, дерево – живость и живность пространственных устремлений внутрь образа самодовлеющего и трепещущего животной мыслью тела – тела, опутанного нестабильной и неуверенной в себе протяженностью. Тело как образ пространства без образа.
Выпуклая, самозваная вещественность осеннего кленового листа, лежащего на тропинке. Выгнутые вверх, растопыренные края багряного с прожелтью листа, обреченного на прямую жестокость и жалость приспущенного театральным занавесом неба.