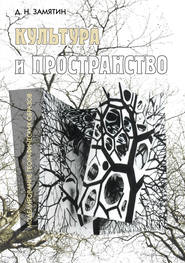По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Инспектор земных образов. Экспедиции и сновидения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Белый бумажный лист октября с неверным, дрожащим, неуловимым парусником опавшего, павшего, палого палевого листа. Поле разрыва, расхождения перепада шероховатой акварели искренней осени цвета, света, пространства. Уходящая в сторону глубина плоского пламени заката, выдержанного, растянутого, опрокинутого плёнкой лиловеющего воздуха-воды, каплей невесомого, легкого забвения бытия.
Внутри своего собственного пространства, внутри своего собственного глаза, растерянного сферами растекания исполинского волнообразного цвета-света, цвета-цунами, накрывающего «с головой» возможность спокойного панорамного классического ландшафта. Сфера-труба, нагнетающая динамику, движение, ветер, ускорение, взрыв обезумевшего глаза, заменяющего дальнозоркий или близорукий взгляд потоком неприрученного, дикого, расфокусированного пространства, облекающего, обхватывающего, опространствляющего себя самоё.
Необузданный, неописуемый аппетит глаза, замеченного в съедении, поглощении, пожирании жуткого, обесчещенного пространства, разворачивающегося, разлагающегося кольцами, спиралями пронзительного ландшафтного света – географических образов пространства-цвета, пространства-как-цвета, цвета как «оландшафтенного» пространства.
Тайфун света, застилающий обыденные интерьеры бытия, размазывающий, расплющивающий само пространство неистовым световоротом, круговоротом, цветоворотом.
Пожар пространства, распадающегося дождем, сыростью и паром стремящейся в вязкий и липкий туман вечности.
…И мякоть каменного неба покрывает ландшафт скрывающегося от самого себя взгляда, безвольного тела затопленного безразличным светом пространства.
Расплавленное лето дождя, Дерево моих желаний, Расколотый ветер рая –
Где ты, сухой свет
Муравьиного полдня?
Прорехи невнимательной пустоты, крошащей плотную желтую бумагу пространства, прижатого «спиной» к радости, ужасу, спокойствию цвета – цвета чудовищных времён, вспышек, сожжений.
Струи пространства вторгаются в вечность, не откладывающую на потом влажную зелень и яблочный сок настоящего. Устои, каркас, опоры невинного воздуха строятся, кажутся забытым светом растянутых сожалений. Ложь заданного образом ландшафта бороздит алое поле внутренней веры в любовь не пространства, но подпирающей мир пустоты.
Расстилаясь, разворачиваясь Брейгелем бытия, сосредотачиваясь Леонардо ландшафта, пульсируясь Клее пространственных лакун, рассекаясь Филоновым места, становясь Европой китайского лада. Китаем Европы.
Корабли в отдалении, Появление морских чудовищ –
Появление цвета, Пространство-без-пространства, Свет единой чертой бытия –
Рукопись глаза-кисти.
Записная книжка пространства, расцвеченная, разукрашенная оттисками небесных пустот, провалов, бесцветий, белесых цветков мгновенного, а-временного бытия. Пыль мысленной древности потерянного образа, чья география – по ту сторону ландшафта. Дао путешествия состоит в невозможности закрыть глаза бессонного ледяного ветра – ветра утрат, забытья, небытия.
Пустотно-белая горечь кирпичного чая, чьи блики, бульканья, отблески бегут тенями тайных свобод шатра, кибитки, юрты. Теснясь зелено-седыми волнами степной юдоли, решимость пейзажа раскрыться внутренней сферой прищуренного тщательно глаза дарит невиданному пространству время и благодать непредвиденного пути.
Гранёные, искрящие, хрустальные метафоры молодящейся, ледяной еще земли, хрупких весенних зеленей, не верящих плотной тяжести театрального горизонта. Сферические формы воздушных междометий, меж разреженного, освежёванного пространства раскатываются неприличным звоном талой дребедени, мишуры, чепухи, просто залежалого мусора.
Ночь растений – огромная, неповоротливая, неуклюжая, пухлая – взрывается и опадает коллажем клочьев травяного сока, лиственных мыслей, ветреных стеблей сирого бытия. Не сырость шороховатой темени, но чуткость ночного часа сообщает тайному пространственному росту привкус чащобной удачи.
Ускользающая змея неверного чешуйчатого ландшафта, скрывающего пристальность, сосредоточенность, «упёртость»
застывшего в стойкой непрерывной медитации места. Место вне обстоятельств, вне утраченного времени, вне внутреннего пространства.
Округлая усталость дня, линейного времени-корабля, оседающего поверхностью непредвзятых, органичных событий, чьи места, точки, локусы – лишь смещения зацикленного, кру-говращающегося глаза – органа беспросветного, внутрисветно-го, а-светового пространства, сворачивающегося образами узких вместилищ, хранилищ географического разума, разума-тела, движимого внешней телесностью неправильных, кривых, плавных очертаний любой локальной судьбы.
С отрадой в маленькой душе
В воздухе передачи расстояний –
Песок приземлённого доверия
Стелется Скрипит
Пространством
«Религия» пространства, таящаяся мощь внутренней родственной солидарности мест, рождающихся как внезапное откровение посреди путешественной равнины однообразного бытия.
Континентальность – строгость сосредоточенного азимута, нацеленного в пустоту не слышащей самоё пространство природы. Перепады, высокие волны растянутого, полурастерянного бытия, разворачивающегося океаном многовременных, муль-тивременных географических образов, ответственных за разрывы, провалы, пропуски, прочерки ландшафтных письмен и «ци-дуль».
Прекращающееся, застывающее, застылое время, располагающееся в декорациях образа нигде, не дающем сочувствовать месту, облеченному в «тогу» прозрачности, прозрения, небытия. Некогда небытие нигде.
Путешествия внутри воздуха на пределе сопротивления упругих многозвучных ландшафтов; где-то там, где подвешенная к потолку бытия нить путевой жизни подрагивает, вибрирует местом обнаженной путетворящей истины.
Инспектор земных образов
Я нахожу нечто – наподобие языка – нематериальное, но земное, относящееся к Земле. Нечто кругообразное, что, пройдя через оба полюса, возвращается снова к себе самому, и весьма бодро пересекает при этом даже тропики тропов. Я нахожу… меридиан.
Пауль Целан. Меридиан
Нервное пространство неровного выщербленного перрона, холодок мешкотных клубящихся теней, пугливая остановка убегающей поездной гусеницы. Многоликие офени кружатся, неистовствуют; курево, пиво, дым, пирожки, тапочки на босу ногу, простукивание колёс, ворованный хрусталь, собаки как бездомные дети, брошенный щебень чьих-то судеб. Нежность, входящая бесконечностью грязной вагонной подножки; скрытое сожаление, растущее дорогой мишурной накрашенной осени.
Неровность, нетождественность дороги самой себе, ибо в каждый момент времени, в каждой точке бытия она оказывается другим пространством, другим географическим образом, порождающим со-бытие мест. Одно и то же место не одно и то же место, то же самое не то же самое; трава, дерево, дом, ландшафт всякий раз являют мне другого меня – меня как другое место нового образа.
Нерешительные снежные пятнышки в порыжелой тоске голого березняка, равнина мертвой травы лучится ожиданием белесых пустот, густот зимнего бытия. Кажется, небо – лишь стаффаж надвигающегося, наваливающегося пространства немыслимой протяженности, исключающей время размещенного присутствия.
Давление места как постепенное сгущение, проявление образного ядра локального бытия; как становление целенаправленной ландшафтной среды, «умиротворяющей» первоначальную чуждость и «резкость» неприрученного пространства.
Пространство безлистых осенних деревьев, утверждающих несомненную простоту и ясность пронзительной воздушной среды, географического света, разлитого, распространенного невидимыми границами сосуществующих, взаимопроникающих мест.
Светящиеся голым небом поверхности подернутых, покрытых еще не уверенной ледяной корочкой, ледянистым жирком луж, на грани предзимья и зимы. Неожиданная свобода этих ме-тагеографических зеркальных «окошек», небесных омутов замерзающего, коченеющего земного пространства.
Справедливость дороги состоит в утверждении истины пространства-бытия, вездесущной бытийности пространства, становящегося дорожностью, путешественностью самого сознания. Сотворение дороги происходит как разрыв, взрыв замкнутых оболочек, сосудов, форм забытых самими собой временных ландшафтов, мест вне со-бытийности.
Не есть ли ландшафт лишь некая ментальная, образная «сетка» для сдерживания возможных «обвалов», осыпаний, оседаний дикого, необузданного, неосвоенного и неусвоенного пространства? Но в то же время ландшафт, может быть – неполное, частичное, фрагментированное пространство, чья органика безвозвратно утрачена процедурами культурных дистанцирований, препарирований, сублимаций.
Звуки мира появляются чередой частных и частых ощущений, телесных образов слепоты, темени, разрешающихся свободой пространств-вспышек, пространств-далей, раздвигающихся ширм и ширей местностей.
Куча маленьких ёлочек на склоне, колющих, прокалывающих затянувшиеся органикой лесного времени поверхности согласованных, взаимоувиденных, взаимопроникающих мест бытия.
Ступенчатые, чередующиеся, наплывающие перепады высот, горизонтов, окоемов создают стратиграфию удивительного неземного мира, чья образная геология становится все более воздушной, древесной, умозрительной. Не душа горизонта, но зависающая и не торопящаяся к самой себе судьба кругозорных, дальнозорких событий становится вечным становищем пространства.
Музыка языка пространств залегла первым пугливым ледком маленьких пристанционных прудов, прудиков, где детвора, скорые пацаны движутся уже, бегут, катятся, скользят, застывают брейгелевской мощью драматического, изменчивого, переливающегося, драматического бытия предзимья мира. Но свет самого неба еще не прощальный, не тягуче-сумеречный, а, скорее – протяжно-соломенный, сонатный.
Бесполезная огромность пространств, мягко и незаметно облегаемых, окружаемых, обкладываемых островками укромных древесных укрытий, частоколами нечитаемых травянистых пустот. Девочка, нарочито играющая вёртким шариком на резинке в узком осевом коридорчике купейного вагона. Бесполезность географического образа самой жизни, становящейся просто про-странственностью.
Медленность параллельных лучей одного и того же пути, одного и того же путешествия. Районирование пространства происходит как неслышное подкрадывающееся проникновение бытия в кору, подкорку, ядро возникающего образа места; как пронзительная сладость, радость окольцованной птичьей пустоты.
Длительная и настойчивая, стучащая дорожная тьма, в убегающем окне-иллюминаторе поезда, протяженная настолько, насколько хватает сил увидеть себя, свой собственный географический образ как зеркальную сферу рельефной оконной вечности.
Штык или внезапная молния светящейся на стекле с полутьмы рассветного полустанка дождевой струи. Напоминание о сумерках пространства, тяготящихся неприбранным, полураздетым ландшафтом еще неизвестного, неоткрытого за бытиём места.