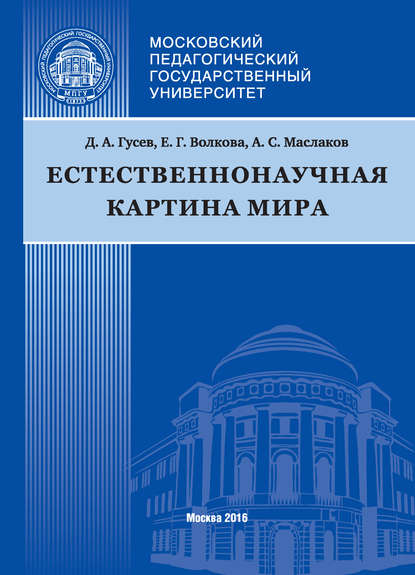По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Естественнонаучная картина мира
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сказанное выше позволяет понять, насколько серьезен был вызов, брошенный самой эпохой церкви, уже привыкшей выступать от имени единственного хранителя интеллектуальных традиций и вообще от имени хранительницы Истины. И появление схоластики в какой-то мере является ответом на этот вызов. Церкви вновь приходится вести дискуссии, как и в первые века христианства, с одним, правда, отличием: схоластика разворачивается и реализует себя в условиях уже сложившейся, а не складывающейся традиции, в условиях сформировавшегося Священного предания, а не споров о догматике. Это означает, что одним из положений схоластической методологии становится позиция, согласно которой истина уже полностью дана в Писании и в Предании, и ничего принципиально нового человек не просто открыть не в состоянии – ему ничего нового и не может быть дано. Вопрос только в том, как именно оно дано, в какой форме. Форма эта – символический текст, который, несмотря на то что истина в нем дана полностью, может быть прочитан бесконечное количество раз, поскольку символизация и предполагает такую множественную игру значений. Схоластика, таким образом, становится искусством чтения и комментирования текстов Писания и Предания с целью выявления истины, или истин, уже заранее полностью данных внутри чистого символизма. Здесь огромную роль начинает играть формально-логический аппарат как универсальная основа для любой дискуссии, что во многом приведет усилиями Альберта Великого и его ученика Фомы Аквинского к реабилитации Аристотеля и оправданию его в глазах схоластической теологии.
Тем не менее главным в таком символическом прочтении остается доказательство своей правоты через доказательство своей позиции кого-либо из Святых отцов или какого-то положения Писания. Отсюда – система отсылок к мнениям авторитетов, фактически без изменений дожившая до наших дней. Я говорю не от своего имени, постоянно акцентирует внимание в споре схоласт, я лишь проясняю и разъясняю то, что до меня уже было сказано и признано церковью вполне каноническим. Опасность высказать свое собственное мнение (сравните: своемнение, своеволие) является опасностью высказывания ереси. По большому счету, это и есть та почва, на которой возникает так называемая «Первая инквизиция», целью которой было не просто выявление и наказание ересей, но своего рода «антиеретическая теоретическая» экспертиза различных вариантов толкования текстов. Понятно, что в такой обстановке к откровению начинают относиться более чем подозрительно, ибо всегда в силе остается вопрос, обращенный на суде к Жанне Д’Арк: а откуда тебе известно, что с тобой откровенничает именно Бог, а не дьявол?
Возникновение интеллектуальной потребности в новом знании, появление новых арабских (Авиценна) и иудейских (Маймонид) источников было благодатной почвой для появления все новых и новых отклонений в толкованиях христианской традиции, отклонений, которые действительно могут граничить с ересью, но и по сути являться таковой. Церковь и ее рационализированная в духе Аристотеля теология в этом контексте получали в свои союзники одного из величайших умов древности, несмотря на то что некоторые труды Аристотеля средневековым читателям не были знакомы, а другие были знакомы с изъятиями, во вторичных переводах и комментариях и т. д. С другой стороны, неаристотелевские рациональные практики часто находились под подозрением.
Такой тотальный, часто даже очень мелочный контроль церкви, безусловно, сдерживал научное развитие и ограничивал интеллектуальное творчество, однако с точки зрения самой церкви и ее представителей-инквизиторов он был необходим. Вспомним, что главная цель, к которой было устремлено все существование средневекового человека от теолога до ремесленника, от крестьянина до студента-школяра, – это спасение, бесконечное счастье и блаженство, альтернативой которым является бесконечное страдание души в бесконечной жизни. Ересь как отступление закрывала путь к спасению любому, кто ее исповедовал – и не важно, насколько искренне заблуждался еретик. Именно поэтому целью инквизиторов поначалу было не осуждение еретика (или обвиняемого в ереси), а его раскаяние, то есть возвращение в лоно церкви. Сказанное выше нисколько не оправдывает инквизицию, но скорее позволяет прояснить логику средневекового интеллектуала, не рассматривающего свое творчество как индивидуальное, а потому обязанного постоянно учитывать потенциальную возможность совращения своих менее искушенных последователей на скользкую дорогу отступления от истины, на которой ничего, кроме гибели, обрести уже нельзя.
Тем не менее в XI в. в средневековой интеллектуальной традиции наметились две линии преодоления схоластики. Первая была связана с именем великого Ибн-Рушда (Аверроэса) и его последователями – аверроистами, чьи позиции оказались близки, в частности, взглядам Роджера Бэкона, Сигера Брабантского и Уильяма Оккама. Самым важным для нас в учении арабского мыслителя является учение, получившее позднее название «двойная истина», или «двойственная истина» (сам Аверроэс этот термин не употреблял, поскольку в его учении «две истины» выступали скорее самостоятельными независимыми суверенными путями к истине, не основывающимися друг на друге и потому не опровергающими друг друга). Суть этой концепции, развиваемой в Европе Сингером, заключается в том, что истины разума и истины веры абсолютно самостоятельны как методологически (о чем можно найти у Аверроэса), так и сущностно. Иначе говоря, истины естествознания никак не опровергают и не подтверждают сведения из Святого писания. И наоборот – истины веры не могут выступать как базовые основания рационального познания. Такое решение проблемы разума и веры позволяло ученому в вопросах познания освобождаться от религиозных авторитетов. Разумеется, эта позиция вызвала критику со стороны католической церкви. Аверроизм был официально осужден, а сам великий Фома Аквинский в противовес «двойственной истине» разработал учение о гармонии, то есть единстве разума и веры.
Вторая линия критики схоластики, казалось, возвращала мысль во времена Тертуллиана с его доказательством истинности веры ее абсурдностью. Это направление получило обобщенное наименование «мистика». Собственно, мистика (от греч. «скрытый», «тайный») представляет собой важный элемент любого религиозного мировоззрения, поскольку предполагает наличие сверхъестественных сил и их связей с человеком. Однако мистика, о которой речь зашла у нас, носила, помимо прочего, и явный анстисхоластический характер. Представители этого направления, в частности Майстер Экхарт, видели в схоластике опасное заблуждение: схоластика, по их мнению, порождала иллюзию знания истины, которую человек никак не может знать в силу своего несовершенства. И если схоласты, признавая авторитет веры, пытались придать этой вере разумную форму, а интеллектуальным практикам рациональный характер, то мистики видели в этом лишь самообман и попытки слабого интеллекта ухватиться хоть за что-то в этом мире. Схоласты обнаруживали в священных текстах возможный путь к истине или ее прояснению, для мистиков тесты сами по себе никуда не вели, не ведут и вести не могут. В текстах нет строгой необходимости в свете конечной цели человеческого бытия (ведь разбойник, спасенный Христом, был неграмотным). Не отвергая грамотность как таковую, мистики предлагали делать акцент не на нее, не на книжную отвлеченную мудрость, где за словами не видно Истины, а на живое общение с Богом через «чтение» книги, созданной Им непосредственно, то есть тварного мира – мира, который оказывается забыт схоластикой, подмененный миром пустых понятий. Сверхъестественное мистиками также толкуется символически, но символом здесь выступает не текст, а его природа. Другое дело, поскольку Бог творит и поддерживает творение не столько силой разума, сколько неким онтологическим актом, то и постижение должно быть таковым: через жизнь в тварном мире, через уподобление Богу, через непосредственный контакт с бытием. В этих условиях особое значение приобретает проповедь как живое общение, а не теоретический схоластический трактат, посвященный истолкованиям «сущего и сущности».
Мистическое постижение истины могло бы напомнить теоретическое созерцание античных ученых, если бы не одно «но» – последовательный и однозначный иррационализм мистиков. Для античного ученого, например представителя неоплатонизма Прокла, мистическое постижение Единого как основы всего являлось разумным, точнее сверхчеловечески-разумным, возникающим в тот момент, когда разум в теоретическом развертывании истины в предельный момент своей собственной открытости миру и восприятия мира в себе вдруг сам переходил в новое качество и начинал видеть истину в божественном экстазе. Экстаз преодолевал разум, но на основе разума, открывая и преображая разум в разумном созерцании через самого себя. Схоластическая традиция и борьба с ней этот путь для мистиков если не закрыла, то сделала чрезвычайно труднодоступным. Поэтому озарение мистиков постигало истину в Боге не через движение, напряжение, преодоление разума, а в обход него, через его простое отрицание, фактически вновь отождествляя разум с рассудком. Иначе говоря, античный ученый, слушая космическую симфонию, подобно Пифагору, всегда видел и различал в ней разумный порядок (пусть и не до конца постижимый человеческим разумом), мистик же целиком отдавался потоку Космической литургии, отказываясь от разума как от досадной помехи.
Как не покажется парадоксальным, именно мистическое мировоззрение окажет, пожалуй, наиболее интенсивное влияние на становление современной науки на ранних ее этапах. Более того, схоластика, как-никак оправдывающая рационализм, будет восприниматься практически всеми учеными этой эпохи как основной противник – как и Аристотель длительное время после Средневековья будет истолковываться как пустой формалист и душитель интеллектуальной свободы.
Поговорим о прочитанном
1. Почему для европейского средневекового ученого-интеллектуала природа не представляет первичного интереса по сравнению со сверхъестественным Богом?
2. Какова главная цель жизни и деятельности, в том числе и познавательной, для средневекового человека?
3. Почему католическая церковь в эпоху Средневековья не поощряла (хотя и не запрещала прямо) исследования природы?
4. Как в эпоху раннего Средневековья христианские ученые решали вопрос о судьбе культурного наследия Античности?
5. Как в контексте средневекового теоцентризма решалась проблема соотнесения веры и разума?
6. Из курса философии вспомните, что такое универсалии. Почему они вызывали в средневековой науке столь существенный интерес?
7. В чем суть схоластического метода? Какие претензии предъявляли схоластам их противники? Почему именно схоластику назовет своим врагом молодая наука XVII в.?
8. Как средневековая мистика понимала цели и методы познания природы?
9. Что такое «двойственная истина»? Какое влияние она оказала на интеллектуальный климат позднего Средневековья?
10. Почему концепция Аристотеля – Птолемея получила столь быстрое и влиятельное распространение в эпоху зрелого и позднего Средневековья?
Тема 3. Гении классического естествознания: революционные открытия эпохи возрождения и нового времени
§ 1. Триумф и падение геоцентрического мировоззрения
Картина мира Аристотеля – Птолемея просуществовала очень долго и объединила несколько исторических эпох. Ей удалось пережить крах античной культуры, расцвет арабской и среднеазиатской науки, вновь вернуться в Европу и на протяжении веков занимать ведущее положение. С чем же связана была ее небывалая устойчивость? Прежде всего с тем, что эта картина мира действительно многое объясняла и объясняла неплохо. Те противоречия, которые в ней были, те расхождения с расчетами, которые многими учеными обнаруживались, не могли окончательно испортить ее репутацию. Ибо по представлениям как античного, так и унаследовавшего его средневековые теоретические знания, несовершенный человеческий ум не в силах постичь в полной мере порядок и красоту Космоса, как и Божественный замысел его Творца. Парадоксальным образом недостатки теории Аристотеля – Птолемея скорее укрепляли ее, свидетельствуя о несовершенстве человеческого ума, нежели ослабляли и фальсифицировали саму концепцию.
Теория Птолемея в эпоху Средневековья была существенно дополнена в содержательном плане арабскими – трудами Ибн-Сины (Авиценны) и европейскими (составление Альфонсовых таблиц в XIII в. или работы Георга фон Пурбаха, Иоганна Региомонтана в XV в.) учеными. Эти дополнения не затрагивали по существу ее ядро – аристотелевскую физику и онтологию, подобно тому, как достижения римских ученых в конкретных областях знания почти никак не отразились на глубинной сути содержания учений античных философских школ. Как римская интеллектуальная традиция, так и традиции Запада и Востока ограничивались лишь дополнениями и, в частности, созданием более точных приборов измерений, например гигантских квадрантов. Аристотель же на этом фоне лишь укреплял свою позицию, поскольку новые и новые факты, «спасенные» птолемеевской теорией, становились ее новыми косвенными подтверждениями. К XVI в. картина мира Аристотеля – Птолемея переживала свой подлинный триумф. Она была признана величайшими учеными и теологами. Она опиралась на систему сложнейших расчетов. Она вполне удовлетворительно объясняла большинство имеющихся фактов. Ее величие покоилось на незыблемом авторитете величайшего ученого древности, а сам авторитет при этом питался ее силой и мощью. И главное, у нее не было сколь-нибудь действенной альтернативы.
Тем удивительнее кажется нам тот переворот, который потряс европейскую мысль за какое-то столетие, радикально поменявший не только лишь теорию движения, но все учение о природе в целом и до оснований. Ученый середины XVII в. мыслит совсем не так, как мыслил его коллега еще за столетие до этого. Природа, предстающая перед глазами исследователя эпохи Рене Декарта и Исаака Ньютона, совсем не такая, какой она была для современников Николая Коперника. Интересно и то, что переворот затронул не только узкую область теоретического знания, – XVI столетие стало революционным во всех смыслах, породив такие процессы, которые отзывались потрясениями и веком позже. Попробуем вспомнить основные потрясения этой эпохи, ломавшей прошлый уклад безжалостно и безвозвратно, очевидные каждому свидетелю той эпохи. Во-первых, изменился мир, который привыкли видеть европейцы, – его границы, некогда очерченные уютной хорошо знакомой Европой, теперь совпадали с границами земного шара. Эпоха Великих географических открытий открыла Землю европейцам и разрушила те иллюзии, которые имелись даже у Колумба, например, относительно размеров Земли или соотношения на ней воды и суши.
Во-вторых, рухнул образ того, что считалось, в частности у алхимиков, вечной божественной неизменной субстанцией – обесценилось золото. Для человека Средневековья золото всегда было равно себе самому как в пространстве (в этом был залог успеха обменно-валютных операций), так и во времени. Золото задавало своего рода иерархическое пространство, в котором перемещались товары, которые могли упасть в цене, испортиться, погибнуть, несмотря на происходящие частные инфляционные процессы, и т. д. Золото же всегда оставалось золотом, которого не может быть «слишком много». Теперь же золото с каждым днем могло стоить все дешевле, а тот, кто получал больше золота, становился все беднее и беднее. Сегодня мы называем эти процессы «революция цен» или инфляция, связываем их с ростом притока золота в Европу из колоний Нового света и легко объясняем простейшими экономическими законами. В XVI в. это казалось невероятным.
В-третьих, Иоганн Гуттенберг изобретает печатный станок – что открывает путь к широкому тиражированию книг и, в перспективе, к распространению всеобщей грамотности. Сгоревшая книга теперь воспроизводится в сотнях и тысячах экземпляров. Из предмета для немногих, книга превращается в вещь, доступную всем.
Наконец, в-четвертых, раскол поразил Римско-католическую церковь, институт, представляющий основу основ бытия средневекового человека. На протяжении тысячелетия церковь активно с переменным успехом боролась с инакомыслием в своей среде, с различными ересями, со светской властью, однако вызов XVI в. был на порядок серьезнее – церковь перестала быть вселенской, возник протестантизм, новая версии христианства. Современник логично задавался вопросом – если церковь не права, кто прав? Если рушатся авторитеты, на что надеяться? Если рушится привычный мир, как жить?
§ 2. Коперник против Птолемея
В этом бурном контексте и развертывается интересующая нас революция, начало которой было положено священником из польского города Фромборка Николаем Коперником. Само название его основной работы на чисто словесном уровне парадоксально-символически отсылает именно к революции: «De revolutionibus orbium coelestium» («О вращении небесных сфер»). При этом сам Коперник – видный польский математик, астроном, физик – не замышлял, как показывают источники, какого-либо радикального переворота в науке того времени. В своих построениях и положениях он опирался на ряд положений, оформленных самой эпохой переворотов и революций и явно-неявно им постулируемых. Первое – ученый в своих научных выкладках должен действовать самостоятельно, руководствуясь собственным умом, а не прикрываясь книжной мудростью современных ученых. Второе – для истинного познания Космоса необходим возврат к настоящей, подлинной мудрости древности, в том числе и чистой мудрости самого Аристотеля, затемненной веками различных интерпретаций и комментариев. Последнее, кстати, очень любопытная тенденция любого смутного времени, когда страх перед неопределенностью и неудовлетворенность существующим положением вещей часто заставляет интуитивно возвращаться к истокам, к фундаментальным основаниям, базовым принципам и т. д. Это было характерно не только для Коперника, но и для последователей, например, так называемой герметической традиции (тексты I в н. э. они рассматривали как мудрость, восходящую к самому Герме су Трисмегисту) или для самого Мартина Лютера, начавшего свою реформаторскую практику с призыва вернуться к изначальному христианству, то есть по сути, с радикального фундаментализма.
Коперник выступил против Птолемея по целому ряду позиций, действуя прежде всего как математик (а мы помним, что именно математическая форма традиционно считалась одной из сильных сторон птолемеевской теории). Во-первых, по его мнению, Птолемей нарушил свой собственный принцип равномерности движения планет вокруг центра, введя искусственное построение – эквант. Ведь эквант – это воображаемая точка вне Земли, вокруг которой планета движется равномерно. Но зачем же так усложнять, спрашивает Коперник, если, вероятно, есть и более простое рациональное решение для описания сочетания сфер и орбит планет. Во-вторых, Коперника не удовлетворяет то, как Птолемей объясняет смену времен года и дня и ночи. В-третьих, Коперник критикует птолемеевскую систему за то, что она имеет неограниченные возможности для собственного усложнения («спасения фактов»), но при этом имеет очень сложную структуру, элементы которой почти никак не связаны в единую систему, хотя геометрически это представляется более чем необходимым.
Решение этих задач, точнее, нескольких уравнений в рамках единой задачи, Коперник видит в чрезвычайно смелом предположении о том, что все небесные сферы движутся вокруг Солнца, около которого находится «как бы центр мира», Земля же является лишь центром тяготения, как и любая планета или небесное тело и центром лунной орбиты. При этом Земля вращается вокруг своей оси, чем и определяется, в частности, смена суток. Проверить эту гипотезу (как, впрочем, и птолемеевскую) в то время было невозможно. Никакие факты или эксперименты не могли свидетельствовать как в ее пользу, так и против нее. Главными доводами Коперника были геометрическое математическое единство системы небесных сфер, а также исчезновение эпициклов и эквантов для ряда планет при введении главного допущения о Солнце как центре всех небесных сфер. Довод, связанный с исчезновением эпициклов, для Коперника имел решающее значение. Однако для многих, так называемых «верхних» (от Марса) планет при перенесении на них расчетов Коперника (уже после его смерти) эпициклы, увы, сохранились, едва ли не увеличившись в числе, что и послужило со временем росту критического отношения многих астрономов к коперниканским выводам в целом. До нас дошел и самый сильный известный аргумент оппонентов коперниканцев: если Земля вращается, то почему мы не ощущаем вращения?
Утвердив Солнце на место Земли, заставив Землю вращаться как вокруг Солнца, так и своей оси, Коперник многое оставил в системе Аристотеля почти без изменений: круговые орбиты планет, небесные вращающиеся сферы (что, кстати, отразилось и в парадоксальном названии его труда), сферу неподвижных звезд и т. д. Но, повторимся, Коперник и не рассматривал свои размышления как радикально-революционные, ведь и у Аристотеля Земля играла лишь роль видимого физического материального центра Космоса, тогда как подлинным центром выступал Ум Перводвигатель как первопричина всего сущего в Космосе, первоисточник всякого движения.
В этой связи интересно замечание Коперника относительно того, что расстояние от Земли до Солнца настолько мало относительно общих размеров Космоса (расстояния от Земли и Солнца до сферы неподвижных звезд), что можно условно считать их находящимися в одной точке, но не строго в центре мира. Эта оговорка делает революционность Коперника еще более условной, а пресловутую гелиоцентрическую модель не более чем возможной схемой, лучше своих конкурентов описывающей некоторые явления и полнее отвечающей критериям традиционно-аристотелевой научности. Строго говоря, ведь и птолемеевская система с ее эквантами не могла считаться абсолютным геоцентризмом. Таким образом, Коперник не отбрасывал Аристотеля, он, по своему разумению, скорее наделял его новым дыханием. Гипотеза Коперника в будущем стала называться гелиоцентризмом и сменила собой древний геоцентризм. До сих пор наши общие представления о Солнечной системе являются, по преимуществу, коперниковскими.
Тем не менее Коперник понимал, сколько противников у него обнаружится в момент, когда работа будет опубликована. По этой причине он действовал очень осторожно и не спешил широко объявлять о своей гипотезе – о ней он сообщал лишь самым близким коллегами, храня труды только в рукописи. Он не спешил ввязываться в дискуссии ученых мужей. Главная его работа «О вращении…» вышла в год его смерти с посвящением папе Петру III и весьма осторожным комментарием. Как и рассчитывал Коперник, работа вызвала огромный интерес, однако была подвергнута вполне справедливой критике коллег-католиков, в том числе и за дополнительные эпициклы. Протестанты, включая Лютера, восприняли работу в штыки, вплоть до требований ее запрета и уничтожения; наконец, в конце XVI в. в условиях ожесточенной контрреформационной борьбы она была включена в индекс запрещенных книг и Римской церковью.
§ 3. Открытие бесконечности
Другим своеобразным пунктом революционного прорыва XVI в. стало новое понимание природы Космоса. Все больше и больше интеллектуалов той эпохи склонялись к точке зрения о его бесконечности. Даже те, кто, подобно Аристотелю, продолжал настаивать на его конечности как определенности и оформленности – ибо актуальной бесконечности, как доказывал Аристотель, не бывает – часто склонялись к тому, что относительно небольших расстояний (например, радиус Земли или расстояние от Земли до Луны) размеры Космоса настолько огромны, что вполне могут считаться бесконечными. Такой позиции, как мы видели, придерживался даже великий Коперник. Да, Космос конечен с точки зрения его определенности и упорядоченности (качественно), однако его вполне можно считать бесконечным с точки зрения его количественных измерений в зависимости от избранной системы мер.
Ученым древности была известна бесконечность, которую часто отождествляли с пустотой, но потенциальная, возможная. Такой бесконечностью, например, выступает бесконечная делимость единого бытия, хотя здесь, скорее, перед нами парадокс, ведь неделимое не делится, но мы можем этот процесс представить в его бесконечности. Аристотель, чей авторитет долгое время был непререкаем, соединил потенциальную бесконечность с математической. У нас есть числовой ряд, рассуждал Аристотель, и мы прибавляем к каждому последнему числу единицу. Есть ли у этого действия предел? Теоретически – нет. Я всегда могу вообразить за определенным числом большее его на единицу. Вообразить – да, но распространяется ли это утверждение на чувственный мир? Возможна ли бесконечность в своей актуализации?
Аристотель, отождествляя бесконечность с пустотой, на этот вопрос отвечал категорически – нет, не возможна. Мы уже видели, что в аристотелевском Космосе пространство иерархично (небесные сферы, надлунный и подлунный миры, неподвижный центр Космоса и т. д.), а никакое тело не сможет естественно двигаться, если у него нет места (его, выделенного в Космосе, места) – как не сможет никуда двигаться бесконечно большое тело.
Впрочем, некоторые ученые и философы (Демокрит Абдерский) допускали бесконечность (пустоту) в свои построения, однако самой ее природы они, как правило, не касались, что не мудрено – разве можно высказаться о чем-то неопределенном, не имеющем границ, не имеющем различий внутри себя? Да и как отличить его от других вещей? Какое слово выбрать для его обозначения, ведь всякое слово имеет значение, то есть определено в своих предметных границах. Для того чтобы говорить о неопределенном, его необходимо определить, то есть ввести в необходимые пределы. Пределы не столько человеческие, сколько космические или онтологические, например – идеи или формы. Иначе неопределенность не сможет явить себя кому-либо, даже себе самой, а не только весьма ограниченному человеческому разуму. Так не определена, например, чистая материя у Аристотеля, выступающая как чистая возможность, без какого-либо существования, в отличие от материальных вещей. Неопределенность и бесконечность, таким образом, являются синонимами небытия, несуществования, хаоса и дезорганизации.
Первый прорыв в бесконечность был осуществлен в первой половине XV в. итальянскими художниками и архитекторами эпохи Возрождения, прежде всего Филиппо Брунеллески и Леоном Баттистой Альберти, описавшими и успешно применившими в своем творчестве всем сегодня хорошо знакомую линейную перспективу. Многие современные исследователи связывают это изобретение с чисто практической необходимостью универсализации художественных операций в связи с ростом заказов у художников и архитекторов той эпохи. Однако, во-первых, подобные «правила» существовали в изобразительном искусстве всегда, причем в зависимости от специфики картины мира той или иной эпохи. Во-вторых, новые правила перспективы изначально выстраивались на математическом фундаменте, на учениях о пересечении прямых, пирамидах, теориях пропорций, подобий, на строгих расчетах и вычислениях, настолько строгих, что такого рода работа требовала специальной подготовки и выходила за рамки общепринятых математических учений, изучаемых в так называемых школах «абака». Это, в частности, привело к тому, что Северное Возрождение к идее перспективы вплоть до Альбрехта Дюрера (XVI в.) относилось весьма прохладно.
Собственно, сама идея линейной перспективы предусматривала следующее: создание у зрителя иллюзии реальности, снятие границы между изображением и зрителем, точность пропорций в передаче приближенных и отдаленных предметов. Достигались подобные эффекты, как уже было указано, строгими построениями, прежде всего, «зрительной пирамиды» Л. Б. Альберти. Однако, с другой стороны, как отмечают многие авторы, человек никогда не наблюдает мир строго по законам линейной перспективы, хотя бы уже потому, что зрительное восприятие искажается сферой глаза. Таким образом, перспектива рисует мир, никогда не существовавший и несуществующий (во всяком опыте и для всякого опыта, как сказали бы мы), но только через такой несуществующий мир мы и можем, как выясняется, зрительно постичь тот мир, в котором мы сами находимся.
Каков же тот парадоксальный мир, который становится нам доступным через данный художественный прием? Это мир однородного, бесконечного пространства, равноправного во всех направлениях, растворяющего в себе все возможные предметы восприятия и уравнивающего их внутри себя. Так Возрождение раскрывает человеку его зрительный мир, мир его ощущений – через субъект-объектную математическую схему, развернутую в бесконечность (бесконечность моего взгляда, пронзающего по нормали изображение-картину), этот мир становится знакомым, понятным, изначально естественным или, во всяком случае, порождает полную иллюзию этой естественности и не дает в ней сомневаться. Мир становится зримым через незримое, объективность являет себя через субъективную точку зрения, необходимость и строгость природы требует для себя случайной (равноправной с другими такими же) точки взгляда, а конечный мир, окружающий зрителя, вызывает доверие только в контексте бесконечной схемы линейных перспективных построений.
Развитие интеллектуальной стороны учения о бесконечности Космоса на рубеже Средневековья и Нового времени тесно связано с двумя крупными мыслителями эпохи Возрождения, знакомыми вам по курсу философии. У истоков проблемы стоит учение математика и богослова Николая Кузанского (именуемого также Кузанцем) о символическом взаимопереходе Бога, человека и мира как парадоксальном превращении бесконечного в конечное и обратно. Важно то, что Николай не просто постулирует наличие бесконечности и бесконечности актуальной, но и то, что в его концепции бесконечность впервые начинает работать в качестве силового каркаса всей концепции в целом. Бесконечность здесь не просто элемент теории, бесконечность здесь – ее самая сердцевина, а значит, она становится и сердцевиной всякого мышления. Что интересно, Николай, будучи одним из видных деятелей церкви, кардиналом, нисколько не порывал с теологической традицией, следуя, по его собственным неоднократным утверждениям, строго в ее рамках. Более того, он никогда не получал прямых обвинений в ереси, хотя по сути своей его взгляды были очень близки к пантеизму (местами – даже к гностицизму), насколько может быть близок к пантеизму с его безличным, разлитым в природе божеством христианский теолог, для которого Бог – это Личность прежде всего. Впрочем, справедливости ради, вновь подчеркнем, пантеизм Кузанского носит исключительно символический характер и не предполагает прямого отождествления Космоса и Бога. В символизме и заключена вся тонкость, сложность и красота его концепции, позволяющей не просто осмысливать Творца и творение в их единстве, но и выводить мышление на качественно новые для той эпохи уровни.
Сегодня концепция Кузанского интересна не столько богословскими тонкостями, сколько развернутой диалектикой конечного-бесконечного, революционной по своей сути и радикально меняющей сам стиль мышления своего времени. До Николая бесконечность, даже признавая ее бытие, можно было тем или иным способом выносить за скобки, рассматривать как фон или парадокс-апорию. После него это сделать уже было нельзя без радикальной травматизации мысли – ее требовалось включать в сам акт осмысления мира, делая мысль соразмерной ему, то есть безграничной.
Любой здравомыслящий человек согласится, что в ходе познания разум стремится к истине как конечной цели своего бытия, в которой его движение успокаивается, а сам он достигает совершенства. Эта истина, поскольку она выступает как цель познания, является полным, совершенным, законченным знанием, его абсолютным максимумом. Можно назвать эту истину Богом, как это и делает Николай Кузанский, можно обозначить ее как угодно иначе, но общий смысл сказанного выше от этого не изменится. Эта истина выступает как начало познания, так и его конец. Разум стремится к ней изначально, в каждом акте «хочу знать», с самого первого момента своего бытия. Он изначально ее полагает своим собственным актом, как собственную невозможность, как нечто бесконечно отличное от него самого, признавая свое незнание. Но она же выступает и как бесконечно отсроченный финал познания – как абсолютная противоположность «ничто», как абсолютная полнота, доступная разуму противоположенности.
Другой вопрос – может ли человеческий разум постичь эту совершенно законченную истину, то есть охарактеризовать ее не только онтологически, как мы это сделали выше, но и содержательно? Разумеется, нет, иначе ему, приняв в себя ее содержание, придется принять на себя все ее атрибуты – то есть стать полным, совершенным, законченным, абсолютным. Августин Аврелий в свое время остроумно сравнил подобную процедуру с попыткой вместить мировой океан в обычный столовый стакан. Получается, что разум, с одной стороны, бесконечно стремится к недостижимому, то есть к незнанию, а не к знанию. С другой, это недостижимое уже каким-то невероятным образом достигнуто, ибо разум о нем мыслит, то есть имеет в своем осмыслении, охватывает самим собой, сам, будучи несовершенным, имеет мысль о самом совершенном. Утверждая, что абсолютная истина недостижима (то есть совершая логическое отрицание), мы тем самым утверждаем некую истину, радикально отличную по форме от всех истин, известных нам ранее.
Если мы признали наш разум несовершенным, то несовершенство это является следствием его конечности, то есть устремленности на вещи, а не на совершенную истину. Эта способность нашего познания, которая традиционно именуется Кузанцем рассудком, направлена как раз на исчисление конечных величин. Разум же – свойство иного порядка, ибо именно с его помощью обнаруживается совершенство истины – совершается обнаружение границ познания и видение сквозь эти границы. Разум становится тем, что выводит нас к бесконечности, а бесконечность – атрибутом истины, выражающим теперь не ее «неопределенность» и чистую «потенциальность», а превышение любых пределов, которые могут быть ей поставлены. Тем более беспредельна она для разума – ведь разум стремится к ней, но не достигает ее. Это первое приближение разума к бесконечности, где бесконечность задает разуму определенное направление движения от самого себя к самому себе.
Что же еще можно сказать об искомой истине, интуитивно обнаруживая, но не постигая ее в том смысле, в каком рассудок постигает конечные вещи? Она есть полнота, то есть максимум (больше нее ничего нельзя знать, за ней нет никакого существования, у нее нет никаких пределов и степеней). Она есть единство (самой с собой), равенство (самой с собой) и связь единства и равенства. Она бесконечна, поскольку она противостоит человеческому разуму (моему разуму), которой не имеет ни одного из приведенных выше свойств. Кроме нее нет ничего – поэтому она есть и Космос и конкретная вещь и я сам, а потому она есть основа основ.
Итак, мы столкнулись с бесконечностью как формой противополагания разума своего объекта (Космоса) самому себе – и наоборот. Это означает, что разум может раздвинуться до божественного понимания, не постигая при этом само божественное (истинное) и не делая его свои содержанием, но становясь сам причастным к нему. Бесконечное – не атрибут истины самой по себе, а ее свойство, возникающее при взаимодействии с моим познающим разумом.
Бесконечное становится всеобщим вместилищем и всеобщим источником для всех конечных вещей – как бесконечная прямая вмещает в себе бесконечное множество простых фигур (треугольник, окружность, сферу, квадрат, параболу). И наоборот – каждая фигура становится символическим выражением бесконечности в его внутренней саморазличенности. Конечные вещи (величины) обретают два модуса бытия – в бесконечности и самих себе, причем в бесконечности нетождественные конкретные вещи становятся тождественными, несоизмеримые величины – соизмеримыми и взаимопереходящими.