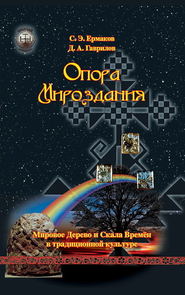По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Трюкач. Лицедей. Игрок. Образ трикстера в евроазиатском фольклоре
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
При Петре Великом штат придворных шутов насчитывал 24 человека. Здесь вполне историчным представляется нам образ шута Балакиря, то есть Балакирева, младшего современника императора, дурачившего в имевших повсеместное хождение анекдотах то попа, то Синод, то самого царя (Проделки хитрецов, 1972, с. 254–262). Уже трудно отделить шутовство, аутентичное времени пребывания Балакирева при дворе (в роли шута он был крайне непродолжительное время, уже под конец царствования Петра), от того, что ему приписывала затем благодарная молва. Характерно, что шут выступает заступником перед государем и спасителем тех, кому уже никто и ничто помочь не в силах. Он смехом смирял жестокие нравы эпохи. Так, например, однажды Пётр Великий подписывал указы о смертной казни, посиживая за столом (на котором дневал и ночевал любимый учёный кот царя). Балакирь притащил в рукаве мышку. И когда государь спросил у шута совета по части казни, он выпустил мышь перед носом кота. Участь мыши была решена мгновенно. «Кот-то у вас, государь, учёный, – сказал шут. – Но и его природа тянет, и все идёт не по уму, а по природе. Так и висельника одолевает природа поди. И ничего он с собой сделать не может…» Словом, Пётр помиловал уже осуждённого, сочтя наглядный пример убедительным.
В одной из баек шут просит себе у Синода власти над мухами. Заседатели охотно соглашаются. Тогда Балакирь напустил в синоидальное заседалище мух и, стоило какой из них сесть министру на плешь, мигом бил по ней мухобойкой. «Министрам взять нечего, потому что все подписавши, что мухи – его подданные: что хочет, то и делает» (Русская сатирическая сказка, 1958, с. 98).
Впрочем, царь, любивший всё делать сам, не ограничивался лишь созерцанием шутовских представлений, но сам изобретал и принимал участие в разного рода «дурацких» действах.
В созданный им «всешутейший и всепьянейший собор» во главе с Зотовым входили ближайшие сподвижники Петра[3 - После смерти Никиты Зотова «патриарший» престол занял Петр Иванович Бутурлин, который был назначен на роль «всешутейшего и всепьянейшего митрополита Санкт-Петербургского, Ижорского, Кроншлотского, Ингерманландского». К Бутурлину перешёл не только потешный пост Зотова, но и его вдова, с которой новый «князь-папа», тоже овдовев, обвенчался по настоянию государя в 1721 году.У самого Петра I в том соборе была кличка Пахом-пихайх*й. Никита Зотов именовался как «Всешутейший и всесвятейший патриарх киреби Никита Пресбургский, Заяузский, от великих Мытищ и до мудищ». Чтобы не смущать читателя, мы опускаем прочие звания и клички участников собора, они были не менее матерными и даже в тот век, более характерный фривольными языковыми оборотами повседневной речи, предосудительными.]. Все важнейшие государственные события – военные победы, дипломатические успехи – отмечались шутовскими выходками: наряженные члены собора на санях, запряжённых свиньями, козлами, собаками, разъезжали по столице, врывались в боярские дома и заставляли хозяев принимать участие в общем веселье. Особым разгулом сопровождалась состоявшаяся в 1720 г. шутовская свадьба князя-папы. Действо это граничило с кощунством – ведь пародировалось одно из важнейших церковных таинств. Свадебную процессию возглавляли Пётр и Александр Данилович Меншиков, одетые в костюмы матросов. Они били в барабаны. Эти факты интересны тем, что речь в них идёт не просто об отдельных праздниках или обрядах, но о постоянно действующих организациях. Ведь и «всешутейший собор» существовал именно как особого рода организация на протяжении более тридцати лет. Членами его были известные государственные деятели, например: Головкин, Стрешнев, Апраксин или Мусин-Пушкин.
В 1870–1880-х гг. в журнале «Русская Старина» публикуются очерки Михаила Семевского о деяниях Петра I, составленные автором по подлинным и до того времени неизданным документам. В первую очередь это бумаги Тайных Розыскных дел Канцелярии времени Петра Великого, более века хранившиеся в Петропавловской крепости, но при Николае Павловиче перенесённые в Государственный архив министерства иностранных дел. Среди книг, которыми пользовался Семевский, и многотомное издание «Деяний Петра Великого» 1792 года. Едва ли могут возникать сомнения в подлинности изложенного.
Более 70 страниц книги освещают одну из любопытнейших сторон в характере Петра, все они отведены теме своеобразного юмора государя-императора, как раз проявившегося в основании «всешутейшего и всепьянейшего собора» (на манер церковного) и «епархий пьяниц, обжор и шутов» (Семевскiй, 1884, с. 280–311).
М. И. Семевский пишет: «…За нужное почитаю сказать, или паче повторить уже сказанное мною в разных местах истории монаршей, что все его величества забавы и шутки имели целию своею какую-нибудь пользу или намерение. Сия же забава, о которой мы говорить намерены, имела целию своею весьма важный предмет. Мудрый государь, дабы мечтаемую папой власть над христианством, и самую его особу в большее привесть у подданных своих презрение, наименовал бывшего учителя своего, реченнаго г. Зотова, папою; наряжал его смешным образом в его папские уборы, представлял многие обряды папские в таком же смешном виде, и проч.
Равным сему образом приводил он мало-по-малу в неуважение патриарха российского. Мы уже видели в своем месте, что великий государь, решившись от самой смерти последнего патриарха Адриена упразднить патриаршее достоинство в России, но что ведая привязанность народную к сей верховной главе духовенства, предоставил оное времени, пока то есть несколько предрассудки народные придут, так сказать, в ослабление… Но наконец видя, что народ, дворянство и самые даже знатные особы все еще с некоторою нетерпеливостью ожидали посвящения новаго патриарха: тогда-то уж монарх, а именно в конце минувшего [1714] года, решился открыться, что ожидание их есть тщетно; он собрал первейших духовных империи своей и других знатных особ, объявил им, что он хочет быть один начальником российской церкви, и предоставляет учредить духовное собрание, состоящее из просвещеннейших в государстве особ духовных, дабы принимать их совет в делах, до церкви касающихся… (собрание получило название Священный Синод. – Д. Г.) …А дабы к сему приготовить умы, то восхотел государь наперед изведать мысли своих подданных и о тех переменах, которыя положил он учинить в правлении церковном; на сей-то конец того-ж князь-папу преобразил в патриарха; он одевал его иногда в подобное патриаршему платье; сей последний, когда представляющий патриарха садился на лошадь, держал стремя коня его, по примеру некоторых царей российских, при восседании патриарха на коня в назначенные дни. Сему же концу соответствовала и выдумка монаршая толь смешной церемонии свадебной сего мнимого патриарха…» (Там же, с. 318–332).
Свадьба тайного советника Никиты Моисеевича Зотова (которому на момент свадьбы было около 75 лет) была расписана до мелочей – кому из участников (адмиралов, генералов, графов, князей и т. д.) в каком платье быть, в какие игры играть. Например, генерал-лейтенант Бутурлин по замыслу Петра должен был бить в барабаны. Князья Долгорукие да Голицыны, переодетые в китайское платье, должны были дудеть в дудки, а господа Бестужев и Толстой бить в тарелки медные.
Карл Густав Юнг указываел, что этот «“праздник” Дурака или “счастливый случай” давал волю более древнему слою сознания со свойственными язычеству необузданностью, распутством и безответностью <…> Совершенно очевидно, что Трикстер является “психологемой”, чрезвычайно древней архетипической психологической структурой. В своих наиболее отчетливых проявлениях он предстает как верное отражение абсолютно недифференцированного человеческого сознания, соответствующего душе, которая едва поднялась над уровнем животного» (Юнг, 1997, с. 338–356). Кстати, долгое время сохранялось написанное рукой Петра в 1722 г. и подписанное им толкование заповедей[4 - См.: Семевскiй, 1884, с. 332–334. Полные сарказма толкования и ядовитые комментарии дальновидного государя-«Антихриста» к заповедям не грех перечитать нынешним властям предержащим, сменившим в одночасье партийный или комсомольский билеты на крестик и свечу.], которое мы здесь не приводим потому лишь, что в наш век повального тяготения к клерикализму автору, того и гляди, припишут как его собственное и крамольное мнение самого Петра Великого, который был не только трикстером, но и несомненным культурным героем своей эпохи.
* * *
Известнейший советский исследователь Е. М. Мелетинский определяет Трикстера через призму образа культурного героя: «К[ультурный]. г[ерой]. (с чертами первопредка и демиурга) и его комический дублёр – трикстер – центральные образы не только архаической мифологии как таковой, но и первобытного фольклора в целом. Это объясняется, во-первых, архаически-синкретическим характером указанных образов (они предшествуют отчётливой дифференциации религиозных и чисто поэтических сюжетов и образов) и, во-вторых, тем, что К. г. (в отличие, например, от духов-хозяев) персонифицирует (моделирует) не стихийные силы природы, а саму родо-племенную общину» (Мелетинский, 1982, с. 27).
Деление на серьёзного культурного героя и его демоническикомическую противоположность в религиозном контексте соответствует этическому дуализму, а в поэтическом – противопоставлению героического и комического. Яркий пример в литературе – Бог и чёрт, Фауст и Мефистофель, а если брать не столь очевидные пары антагонистов, то… вот, пожалуйста: романтик Теодоро и неразборчивый в любви лакей Тристан, «которому по смерти обман воздвигнет изваянья, лукавство посвятит поэмы, Крит – лабиринты…» из комедии Лопе де Вега (1562–1635) «Собака на сене».
Нарушая социальные нормы, герои-трикстеры разрывают порочный круг мира, где всё предопределено («любовь предпочитает равных»), создавая многовариантность, свойственную в мифах богам хтоническим. Трикстер тем самым работает на переходе от жесткой системы к многовариантной.
Культурный герой по Мелетинскому – изначально «В силу недифференцированности представлений о природе и культуре в первобытном сознании (напр., появление огня в результате трения приравнивается к происхождению природных явлений грома и молнии, солнечного света и т. п.) К[ультурному]. г[ерою]. приписывается также участие в мироустройстве: вылавливание земли из первоначального океана, установление небесных светил, регулирование смены дня и ночи, времён года, приливов и отливов, участие в создании, формировании и воспитании первых людей и др. <…> В древних версиях мифов, отражающих специфику присваивающего хозяйства, культурный герой добывает готовые блага культуры, а порой и элементы природы путём простой находки или похищения у первоначального хранителя (у старухи-прародительницы, у хозяйки царства мёртвых, у небесных богов, у духов-хозяев)» (Там же, с. 25).
И далее у него же: «Демонически-комический дублёр К[ультурного]. г[ероя]. наделяется чертами плута-озорника (трикстера). <…> В мифах заметна тенденция отделить серьёзные деяния К[ультурного]. г[ероя]. от озорных трюков. <…> У некоторых североамериканских племён мифы о творческих деяниях Ворона, Койота и др. воспринимаются с полной серьёзностью и ритуализованы по формам бытования, а анекдотические истории с тем же Вороном и Койотом рассказываются для развлечения. <…> Озорные проделки трикстера большей частью служат удовлетворению его прожорливости или похоти. Обычно преобладает какое-нибудь одно качество: например, у индейцев северо-западного побережья Америки ворон – прожорливый трикстер, а норка – похотливый; в мифологии догонов Легба отличается гиперэротизмом, а Йо – обжорством. Стремясь удовлетворить голод или ненасытное желание, трикстер прибегает к обману, нарушает самые строгие табу (в т. ч. совершает кровосмешение), нормы обычного права и общинной морали (злоупотребление гостеприимством; поедание зимних запасов семьи или родовой общины). Нарушение табу и профанирование святынь иногда имеет характер “незаинтересованного” озорства… пародии на шаманское камлание <…> Действуя асоциально и профанируя святыни, трикстер тем не менее большей частью торжествует над своими жертвами, хотя в отдельных случаях он терпит неудачи. Сочетание в одном лице серьёзного К[ультурного]. г[ероя]. и трикстера, вероятно, объясняется не только фактом широкой циклизации сюжетов вокруг популярных фольклорных персонажей, ни и тем, что действие в этих циклах отнесено ко времени до установления строгого миропорядка – к мифическому времени. Это в значительной мере придаёт сказаниям о трикстерах характер легальной отдушины, известного “противоядия” мелочной регламентированности в родо-племенном обществе, шаманскому спиритуализму и др. В типе трикстера как бы заключён некий универсальный комизм, распространяющийся и на одураченных жертв плута, и на высокие ритуалы, и на асоциальность и невоздержанность самого плута» (Там же, с. 27).
В. Я. Пропп показал, что «изучение атрибутов (действующих лиц) даёт возможность научного толкования сказки. С точки зрения исторической это означает, что волшебная сказка в своих морфологических формах представляет собою миф» (Пропп, 2003, с. 82–84). Им разобраны общие мотивы плутовства и одурачивания в народном фольклоре. Одурачиванием Пропп причинение неудачи или посрамление воли, причём иногда одураченный может оказываться посрамлённым по собственной вине (Пропп, 2002, с. 76–83). Среди прочих он выделяет, например, группу сказок о шутах.
Так, шут говорит, что у него есть плётка, которая оживляет мёртвых. «По сговору с женой он будто бы ссорится с ней, будто бы ударяет её ножом, на самом же деле прокалывает заранее спрятанный пузырь с кровью, а потом ударяет её плеткой, и она оживает. Плетку эту он продаёт за большие деньги. Покупатель убивает свою жену и пробует оживить её плеткой. Плут над ним смеётся. Сказка состоит из цепи подобных проделок. Его враги пытаются отомстить ему и уничтожить его, но это оказывается невозможным – он всегда выходит сухим из воды» (Там же).
«Такие сказки – продолжает Пропп, – для современного человека представляют некоторую загадку. Смех представляется здесь циничным и как будто бессмысленным. Но в фольклоре имеются свои законы: слушатель не относит их к действительности… победитель прав уже потому, что он побеждает, и сказка нисколько не жалеет тех доверчивых глупцов, которые делаются жертвой проделок шута» (Там же).
В комедии драматурга Лопе де Вега (по совместительству, что само по себе забавно, носившего звание familiar del Santo oficio de la Inquisicio’n – добровольного слуги инквизиции) «Собака на сене» лакей Тристан, персонаж с характерными чертами трикстера дважды «разводит на деньги» недругов своего господина, прикидываясь наемным убийцей. Кроме того, переодеваясь греческим купцом, он в самой безвыходной ситуации как будто из-под земли достаёт Теодоро (культурному герою) богатого и знатного отца – старика, которого Тристан без труда убеждает, будто это и есть его некогда похищенный пиратами и проданный в рабство сын:
«Теодоро:
Ты здесь с убийцами моими
О чем-то говорил сейчас?
Тристан:
Нет дурня в городе у нас,
Достойного равняться с ними.
Вот цепь и тысяча эскудо
За то, чтобы я вас убил.
Теодоро:
Послушай, что ты натворил?
Смотри, не кончилось бы худо.
Я изнываю от тоски.
Тристан:
Когда бы вы меня слыхали,
Вы мне бы вдвое больше дали,
Чем дали эти дураки.
По-гречески не так уж трудно
И говорить в конце концов:
Чередованье всяких слов.
Зато же и звучит как чудно,
А имена зато какие:
Астеклия, Катиборратос,
Серпалитония, Ксипатос,
Афиниас, Филимоклия…
Здесь главное – красивый звук,
И если кто точней не вник,
Сойдет за греческий язык.
Теодоро:
Меня терзают сотни мук,
Волненья горести и страха.
Ведь если вскроется обман,
Я столько бедствий жду, Тристан,
Что наименьшим будет плаха.
Тристан:
С такими мыслями носиться!
Теодоро:
Ты – дьявол, вот кто ты такой.
Тристан:
Пусть всё течет само собой,
А там увидим, что случится»[5 - Пер. М. Лозинского.].
Рассматривая исторические корни русской народной сказки, Ю.И. Юдин в отдельной работе также обращается к образу сказочного шута, дурака, вора и чёрта:
«…Несомненна связь поведения сказочного шута с древнейшими доисторическими верованиями, представлениями и обрядовой практикой. Для того чтобы определить роль этого доисторического элемента, нашедшего приют в бытовой сказке, обращенной к аудитории новой, феодальной эпохи, необходимо выяснить, что же представляет собой сам сказочный шут, каково художественное назначение и социальное задание этого образа.
Бросается в глаза, что сказочный шут не связан ни с одним сословием, классом или известной профессиональной группой населения. Он находится как бы вне социальных связей и вторгается в социальную структуру исторической эпохи как инородное тело. Шут всегда оказывается за рамками всякой житейской обыденности. Он выделен бывает уже самим названием “шут”, указывающим на его непохожесть, необычность, странность, отъединённость от окружающих… <…> выставляемая напоказ профессия шута является лишь прикрытием, личиной, помогающей обманывать недалеких простаков.
Шутки и шутовские проделки бывают подлинным призванием сказочного героя, выступают истинной его профессией, не признаваемой окружающими за полноценный род занятий. Шутовство – единственная, по существу, сфера его свободной жизнедеятельности, которую он избирает по собственному влечению к ней. Сказочный сюжет поэтому представляет собой ряд эпизодов, в которых речь идет об отдельных шутовских проделках. Эпизодов этих может быть сколько угодно, порядок их тоже не имеет существенного значения. Структура сюжета, следовательно, подчеркивает тем самым существенную характерную черту образа главного героя.
Чрезвычайно любопытно, что шута, наподобие профессионального потешника, другие сказочные герои время от времени приглашают и просят пошутить, сыграть какую-либо шутку, придумать необычную проделку <…>
Наказание же самого шута готовится произойти открыто, на виду у всех. Его, например, волокут в мешке, чтобы утопить, или привязывают к березе, чтобы побить вальками; чтобы расправиться с ним, его недруги являются к нему домой. Шут даже не пытается найти защиту в законе. Он выглядит, по-видимому, юридически бесправным. И это лишний раз подчеркивает его особое социальное положение человека стороннего и всегда в каком-то смысле лишнего, общественного привеска. С другой стороны, тот же шут пользуется большой и несомненной симпатией не только самого сказочника и его аудитории: окружающие его в сказке действующие лица признают в нем достоинства непревзойденного хитреца и обманщика, а иногда и просто весельчака и шутника, способного вмиг развеять томящую скуку рутинного существования» (Юдин, 2006, с. 82–83).