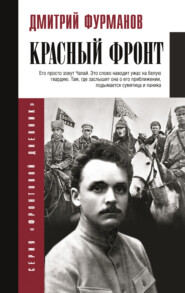По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мятеж
Год написания книги
1924
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Полки и слушать не хотели в эти переходные недели о каких-то дальних перебросках, о каком-то длительном закреплении на хозяйственном фронте. Мы сообщили центру. Но, сообщая, знали отлично, что центр живой силы дать нам не сумеет, не сможет, ибо нет ее у него самого, – вся она до конца использована в других местах. Получалось безвыходное положение. И распускать нельзя, и без движения оставлять нельзя дивизию, нельзя и перебрасывать: куда ни кинь – все клин. Шли мы по наименее опасному пути: теперь же стремились немедля вовлечь полки в трудовые процессы на местах, не выходя из своего района, оттягивая под разными предлогами окончательные разговоры о возможном или невозможном роспуске по деревням; тем временем распустить наиболее старые года – осторожно, постепенно, растягивая, разоружая; усилить до предела политическую работу теми немногими силами, которые могут оказаться полезными; торопить всячески северную дивизию или вообще какую-нибудь надежную силу, которая своим появлением в Семиречье укрепила бы наши позиции, дала бы нам возможность использовать и нашу дивизию не в интересах только семиреченского крестьянина или казака, а в интересах всей республики, как использованы какие-нибудь батальоны рабочих Питера, Москвы, Иваново-Вознесенска, как использованы где-нибудь на Беломорье тульские мужички или поволжские крестьяне по ледяным сибирским тундрам… Но это возможно сделать лишь тогда, когда почувствуем себя твердо, а до тех пор – о, до тех пор держаться выжидательно и вести подготовительную оборонительную работу, отражая наиболее опасные натиски отдельных неспокойных частей.
А тем временем будили и звали всю область на борьбу с хозяйственной разрухой, – изо дня в день об этом писали в газетах, разбросали по армии и области десятки тысяч воззваний, охрипли по митингам и заседаниям, напрягались до предела.
– Товарищи, – звали и разъясняли мы, – фронт прихлопнут, но враг еще жив, не пропала опасность. Не ослепляйтесь победами, но и не теряйте ни часа, – используем эту короткую передышку для борьбы с хозяйственной разрухой. Тыл у фронта просит подмоги: и людей, и опыта, и материальных средств. Чем можем – айда на помощь! Будем бережно, заботливо относиться к народному хозяйству. Будем помнить, что наше оно, не господское, что сами должны мы его теперь оберегать, и укреплять, и растить. Помните это в повседневной своей борьбе, и пусть каждый ваш шаг, каждое ваше действие будет пронизано сознательной этой заботой о народном хозяйстве.
Не век мы будем воевать. Уж близко время, когда разойдется по домам Красная Армия, разбив врага на последних участках. Останется только охрана республики. Мы вернемся с вами к труду, к мирному труду, которым жить хотим, – к пахоте, к заводу и фабрике, ко всякой иной работе. Ведь не вечно же будем мы воевать, – мы воюем лишь для того, чтобы начать скорее трудиться. Для труда воюем, для мирной жизни. И когда вернемся, как дорог нам будет каждый поломанный винтик, как пожалеем мы, что он поломан: все пригодится, все потребуется, обо всем станем горевать, когда вернемся к труду. Пока война, где тут охранять и заботиться об этих винтиках, – тут, конечно, многое гибнет неизбежно и даже с пользой для конечной цели. Там над винтиками думать некогда, а теперь – проникнитесь теперь, товарищи, этой заботливостью, этой бережностью, которая поможет нам преодолеть трудные времена. Помогайте ревкомам, советам, гражданским работникам: поймите, что у них и у нас интересы одни, что работать надо сообща. Надо нам срастить фронт и тыл, так срастить, чтобы поняли мы друг друга и чтобы дальше не было тех непримиримых разногласий, что были до сих пор, в боевую страду, когда подчас тянули каждый к себе, один с другим не считался, один другого слушать не хотел, смотрел на дело только с своей колокольни. Ближе друг к другу. Сращивайте фронт и тыл, красноармейца с крестьянином, киргизом, казаком, с городским работником. Объединимся. Используем эту, быть может, кратчайшую передышку с пользой для дела, отдадим свои силы на хозяйственный фронт. Дружескими усилиями – вперед, товарищи, к труду!
Такими элементарными разъяснениями старались мы бередить армию и область. И не без пользы. Особенно там, где имелись надежные ребята. Никаких перебросок пока не затевали. Торопились на местах стоянок найти работу и поставить на нее бездельничавшие, разлагавшиеся от безделья полки и батальоны. С ропотом, с протестами, нехотя, бранясь и проклиная порядки и непорядки, заворочалась семиреченская армия, зашевелилась, полегоньку стала внюхиваться в то, к чему ее, ленивую и ворчливую, подводили.
– А слышь, браток, на ерманский фронт, надо быть, отсылать станут.
– Каво?
– Вот те каво – всех, а нас с тобой первым делом.
И красноармеец ухмыльнулся, сощурив лукаво глаза, высматривая – какое впечатление на собеседника произведут его хитрецкие слова.
Развалившиеся около, дремавшие товарищи приподняли головы:
– Брешешь, гад!
– А и не брешешь! Приказ на дивизию получен, будто поработать немного, а там и в дорогу собирать, на ермакскую…
– Какой там ерманский, – нет его вовсе…
– То-то есть, – уверял зачинщик разговора, – мы тут живем – ничего не знаем, ан и есть он, ерманский-то, да, надо быть, поляки все…
– Поляки?
– Поляки. И всю силу гонют туда. И нас туда. Из Ташкенту прибег земляк на Косую горку, сказывал, что силы гонют туда видимо-невидимо, потому – поляк…
– Гм… Ето што-то, тово… Только мы свое дело, братцы, сделали – баста!
– Знамо… Вот ищо!.. Ну, так уж…
– Тоись во как сделали, а?
Вздернулись задорно носы, носищи и носишки на самодовольных загорелых, обветренных лицах.
– Вон она, поляк-то, – пишут из деревни, что ни на што не похоже, развалилось все: чинить некому, покупать не на что, а и жрать нечего подходит…
– Так зато – разверстка, – ввернул кто-то ядовито.
– От она, ета разверстка, все кишки наружу вывернула, последний, можно сказать, хлеб начисто отбирают… Сукккины дети!..
– Тоись грабеж один – и удержу нету никакого. Вот придем, мы им покажем разверстку, мы им…
Говоривший скрежетнул зубами и глазами досказал давно перезревшую мысль.
– Алешка, подь-ка сюда, – окликнул он стоявшего поодаль паренька, – ты вот в партию записался, подлец, ну, а как ты нащот разверстки, – што же, так грабить и будут?
Алешка в партию недавно попал за компанию с другими, а насчет разверстки и сам думал заодно с ними.
– Так вот уж скоро по домам – мы там сами распорядимся…
– Да, вот, сами, а пошто теперь без нас все у семейства отымають?
– Так это уж распоряженье такое, – сопротивляется чуть-чуть Алешка…
– Черт его подери, это распоряженье, а нам надо, чтобы вовсе изменить его. Так ли говорю?
Беседовавшие красноармейцы бурно выражали говорившему свое одобрение и согласие…
– И нечего нас тут держать.
– Потому окончили все, – вставил угрюмо сосед, – а раз окончили, нету казака, – значит, и по домам. Что тут мокнуть?
– Все одно, братцы, на дому будем, да, может, оно нескоро, а бы надо теперь… Теперь надо, потому – весна, вон она, пахота, пришла, а кто там пахать без нас обойдется?
– Верно… Известно дело… Правильно, робя…
– Потому и требовать надо, – продолжает ободренный оратор, – чтобы окончили разом всю канитель да отпустили, а не отпустят, мы и сами уйдем…
– Айда, ребята, до командира…
Все вдруг зашевелились, повскакали на ноги. Кучка давно уже обросла слушателями, превратилась в густую толпу.
– И нечего там рассусоливать, – сказать ему натвердо, что идти, мол, никуда не хотим, а делать нам тут нечего, потому, мол, в деревне дело есть…
– Да остановить киргизу! – крикнул резко голос из толпы.
– Чегой-то?
– А киргизу собирают… из киргизы целую, говорят, дивизию создавать хотят – это, чтобы нам воли никакой не было…
– И все оружие будто им отдают, – ввернулся новый голос.
Лица оживлялись нехорошими, злыми желаниями. Наливались гневные глаза. В голосах – слепая, дикая угроза, буйное возмущение, в порывах – готовность заявить сейчас же делом, оружием, кулаками о своем бедовом недовольстве.
Толпа уже неумолчно шумела, не было в ней отдельно выступавших, которых слушали бы остальные, – каждый стремился и торопился перекричать другого, приводил ему бурно свои доводы, повторял чуть иными словами то, что за минуту сам услышал от соседа. Какой-нибудь летучий слух, какое-нибудь отдельное, вдруг подхваченное сообщенье, фраза, слово перевирались, спутывались, видоизменялись моментально… Толпа кипела все растущим негодованием и протестом, – теперь ее особенно подогревали сообщения о формировавшейся в Верном отдельной киргизской бригаде. Она, бригада, действительно формировалась; было уже созвано не одно заседание по этому делу, были строго распределены все обязанности между разными лицами и учреждениями, – бригада росла у нас на глазах. Командир ее, Сизухин, то и дело сообщал о новых пополнениях: область была оповещена широко, посланы были в разные концы по кишлакам агитаторы, они звали киргизов вступать добровольцами в первую кавалерийскую бригаду, и со всех сторон обширного Семиречья стекались они на конях, иные мало, иные крепко вооруженные. Бригада росла у нас на глазах. Сначала только добровольцы. А позже и мобилизацию объявили. Это был серьезнейший, рискованнейший шаг. Очень свеж еще был у всех в памяти 1916 год: тогда царское правительство пыталось провести мобилизацию националов и встретило в ответ поголовное восстание.
А ну, как и теперь муллы, баи, разные провокаторы разбередят население, подымут его отозваться и на эту мобилизацию так же, как отозвались они четыре года назад?
Но этого не совершилось. Мобилизация была принята так, как мы и сами хотели: без протеста, без осложнений, без признаков восстания…
И как только слухи эти о мобилизации туземцев и о создании Кирбригады[8 - Киргизской бригады. (Прим. ред.)] попали в семиреченскую армию, – всполошилась она, затревожилась, запротестовала, заугрожала:
– Нам – оружие отдай, а киргизу – получи, пожалуйста… Чтобы он нами правил? Чтобы он нам за тысяча девятьсот шестнадцатый баню устроил? Нет, наше вам почтение, а оружие мы не отдадим…