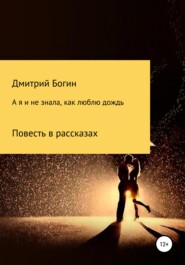По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сборник рассказов о Великой Отечественной войне. 75-летию Великой Победы посвящается!
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О героизме советских солдат особенно хочется остановится на событиях, рассказанных одним из немногих, оставшихся в живых, очевидцах последних дней героической обороны, который принимал непосредственное участие в сражении за второй ряд оборонительных сооружений, был тяжело ранен, чудом остался в живых и был отправлен из Севастополя на одной из последних подводных лодок, эвакуировавшихся из города. Он воевал в составе 109-й стрелковой дивизии, которая совместно с 142-й бригадой и 4-х сводных батальонов под командованием генерал-майора П.Г. Новикова (около 5500 человек) имевшие только стрелковое оружие, небольшое количество минометов и орудий малокалиберной артиллерии, самоотвержено отражали атаки противника и последними покинули Севастополь.
Ночь с 6 на 7 июня 1942 года выдалась душной и жаркой. Ближе к утру с моря задул прохладный ветерок. Но и он не принес облегчения, потому что лишь гнал пыль с перепаханных снарядами и бомбами подступов к Севастополю. Облака пыли и дыма, тянувшиеся с пылающего склада боеприпасов на юге города, застилали немецкие позиции. Мы располагались между второй и третьей линией обороны города, когда в 3 часа 05 минут с рассветом возобновился обстрел немецкой артиллерии, а через час в атаку пошли немецкие пехотинцы и саперы. Было видно, как в Бельбенской долине и в Камышинской балке немецкие саперы прокладывали проходы в минных полях для прохода своих штурмовых орудий для поддержки своей пехоты. Мы наблюдали, как уцелевшие наши солдаты из разрушенных немецкой артиллерией окопов и блиндажей ведут отчаянный бой, но помочь мы им не могли из-за отсутствия у нас даже минометов. Только с помощью ручных гранат и дымовых шашек немцам удалось выбить последних защитников. Слева от нас шел бой за форт «Сталин». Во время прошедшей зимы немецкие штурмовые роты захватили внешние укрепления форта, но тогда контратаками наши солдаты их выбили оттуда, и они были вынуждены отступить обратно в Бельбенскую долину. Теперь немцам приходилось вновь повторить свой кропотливый путь. Приступ, предпринятый 9 июня немцами, не принес им успеха. 13 июня немецкие солдаты, как выяснилось позже, 16-го пехотного немецкого полка пошли на приступ форта «Сталин».
Из рассказа одного из пленных немецких солдат (его нашли контуженным в одной из воронок около форта). Форт «Сталин» представлял из себя груду камней, однако огонь велся во всех направлениях. На Архангельском крыле комендант форта задействовал только комсомольцев и членов коммунистической партии. «Это был, наверное, самый упорный противник, с которым нам приходилось встречаться», – говорил немецкий пленный солдат.
Еще один из примеров. В одном доте прямым попаданием в амбразуру убило тридцать человек. Но десятеро советских солдат дрались точно дьяволы. Они стащили тела мертвых товарищей к разбитым бойницам, точно мешки с песком, и, прикрываясь телами, вели обстрел немецких подразделений. Немецкие пехотинцы позвали на помощь саперов. И немецкие огнеметчики направили огненные струи на страшную баррикаду. Пошли в атаку и стали бросать ручные гранаты немецкие пехотинцы. Но только лишь во второй половине дня немцы смогли захватить форт, взяв в плен только четверых раненых и контуженных советских солдат. Они сдались после того, как застрелился их политрук. По показаниям немецкого пленного солдата, два батальона 16-го немецкого пехотного полка понесли такие тяжелые потери, что у них не осталось ни одного офицера, а оставшихся солдат стрелковых рот двух батальонов возглавил один лейтенант из «командирского резерва».
Кровопролитное сражение за второй пояс обороны кипело в удушающую жару до 17 июня. Невыносимая вонь стояла над всем полем сражения, устланным бесчисленным множеством мертвых тел, по которым тучами ползали мухи. Мы замечали, что немцы время от времени приостанавливали свои действия из-за множественных потерь и нехватки боеприпасов, но именно 17 июня их натиск не ослабевал. Форт «Максим Горький I” продолжал вести огонь из своих батарей 12-дюймовыми орудиями, что останавливало дальнейшее продвижение немецких войск. У нас была связь с фортом, и из переговоров наши командиры узнали, что немцы отчаявшись взять форт, в Бельбенскую долину на свои огневые позиции подтянули две 355-мм гаубицы и открыли огонь по советским позициям. После трех немецких залпов орудия форта «Максима Горького I” еще продолжали вести огонь, но после еще двух залпов, когда рассеялся дым, батарея смолкла, а стволы 12-дюймовых морских орудий остались стоять задранными к небу. Мы поняли, что защитники форта обречены. Стрелять они больше не могли, но внутри огромного бункера из бетона длиной свыше 300 метров и шириной 40 метров не сдались. Группы советских солдат совершали молниеносные вылазки через потайные ходы и вентиляционные отверстия, заходили в тыл наступающим немецким подразделениям и наносили им урон. На требование сдаться советские солдаты ответили автоматным огнем. Защитники сообщили, что немцы подтянули саперные части и начинают минирование.
После первого взрыва, когда дым рассеялся, красноармейцы все еще стреляли из амбразур и проломов. Второй взрыв обнажил внутреннее помещение огромного бетонного бункера. Форт «Максим Горький I” – трехуровневое здание, которое походило на маленький город. В форте имелась автономная подача воды и электроэнергии, полевой госпиталь, столовая, мастерские для ремонта вооружения и оборудования, лифты для подачи боеприпасов, арсеналы и боевые посты. Каждая комната, каждый коридор перекрывались двойной стальной дверью. Позже мы узнали, что немецкие саперы взрывали каждую из них по отдельности. Взрывали дверь, бросали гранаты, ждали, пока дым рассеется, и шли дальше. За каждой дверью немцы видели множество убитых красноармейцев в противогазах (из-за дыма и гари). Никто из них не сдался живым.
В каждом последующем коридоре, за каждой взорванной дверью немцев ждал автоматный огонь. Жестокая бойня продолжалась. Медленно, ценой больших потерь, час за часом бой приближался к командному пункту форта. За боем в форте «Максим Горький» также пристально следили в Севастополе, в штабе вице-адмирала Октябрьского, вблизи от порта. По рации мы слышали переговоры офицера-радиста Кузнецова с защитниками форта. Каждые полчаса поступали сообщения. Приказ адмирала командирам и комиссарам был прост: «Оборона до последнего человека». Поступило сообщение. Кузнецов принял его и передал:
• Нас осталось сорок шесть. Немцы стучат по нашей бронированной двери и требуют сдаться. Дважды мы открывали смотровой люк и стреляли в них. Теперь это больше невозможно.
Через полчаса пришло новое сообщение: «Нас осталось двадцать два. Готовимся подорвать себя. Сообщений больше не будет. Прощайте».
Они сдержали слово и остались верны присяге. Центр форта взлетел на воздух, подорванный защитниками. Сражение за форт окончилось. Из всего гарнизона форта численностью более 1000 человек в плен попали только около 50 – все тяжелораненые и контуженые. Немецкие части понесли здесь большие потери. Из показаний того же пленного: 16-й немецкий пехотный полк в дальнейшем наступлении на Севастополь участия больше не принимал.
Мы с боями отходили все дальше и дальше, к Севастополю. К вечеру 17 июня ценой больших потерь немецкие части овладели фортами «ГПУ», «Молотов», «Чека», «Сибирь». Были разбиты форты «Волга» и «Урал». 19 июня мы заняли позиции у Северной гавани – последний рубеж с севера на пути к южной стороне Севастополя. Немецкие войска наращивали свои потрепанные части на этом направлении и 27 июня, после полуночи, начали форсировать бухту на надувных лодках и плотах. Наблюдатели на наших постах слишком поздно заметили их продвижение. Когда мы открыли огонь, немецкие штурмовые команды уже добрались до электростанции и захватили ее. Решающую роль сыграли немецкие пикирующие бомбардировщики «Штуки». Под их прикрытием немецкие подразделения преодолели последний большой противотанковый ров. Советская оборона рухнула. Но все равно, то тут, то там командиры и комиссары, с остатками солдат, дрались до последнего вздоха.
Мы, с небольшими остатками нашей 109-й дивизии, около роты пехотинцев, сумели закрепиться на скалах Северной бухты. Под нами, в забаррикадированной галерее укрывалось около 1000 человек – женщины, дети и солдаты. Внизу были немцы, и наше подразделение было отрезано от них. Командовавший обороной галереи комиссар, наверное, отказался от предложения немцев о сдаче, потому что мы опять увидели немецких саперов, которые закидывали взрывчатку. Комиссар нашей роты уже стал отдавать распоряжения о подготовке к атаке, пусть даже отчаянной и последней для нас, когда раздался ужасающий взрыв, и все провалилось во тьму…
Свидетель этой трагедии пришел в себя на борту подводной лодки, которая одной из последних уходила из уже безнадежного Севастополя. На борту этой лодки уходил из Севастополя и штаб Приморской Армии и ее командующий – генерал-майор И.Е. Петров, а также и те, кого еще не успели эвакуировать. Из разговоров со штабными офицерами была восстановлена картина последнего акта Севастопольской драмы. В тот момент, когда комиссар подразделения 109-й дивизии собирался отдать приказ об атаке, комиссар взорвал галерею со всеми, кто там находился, включая себя. При этом погибло все немецкое саперное подразделение. Часть скалы обрушилась, увлекая за собой приготовившихся к атаке советских пехотинцев. Очевидца тех событий спасло то, что при обвале ремень автомата зацепился за острый выступ скалы, а его самого, сильно контуженного и израненного осколками горной породы, в последний момент сумели снять солдаты, которые немного запоздали к началу атаки и сумели впоследствии добраться до порта на немецкой надувной лодке.
Процесс лечения в госпитале затянулся на долгие месяцы – слишком серьезными оказались переломы, ранения и тяжелая контузия. Затем снова фронт, только уже на территории врага в составе 3-го Украинского фронта. Балатонская операция. Снова ранение. 9 мая застало в госпитале венгерского города Секешфехвара.
2013 год.
"Гвардии старшина медицинской службы».
рассказ участника войны.
… На моем попечении было около тридцати раненых солдат, в основном, после ранений в живот, и те, которые уже перенесли операции, и которым требовался уход. Мне приходилось их перевязывать, менять постельное белье, кормить, поить, делать инъекции и ставить капельники. Многим помог встать на ноги, в строй, за что был удостоен ордена Красной Звезды.
Соколов А.Ю.
Об Андрее Юрьевиче Соколове я узнал случайно. Когда я еще учился в медицинском колледже, нам, студентам, было устроено праздничное мероприятие к 23-му февраля. Все как обычно: Сначала наши девочки поздравили нас, немногочисленных мальчиков, затем был концерт, устроенный совместными силами. И наконец была организована встреча с ветераном, участником Великой Отечественной войны. Пока все внимательно и заворожено слушали неторопливую речь фронтовика, я разглядывал его пиджак, увешанный разными наградами. Это были Ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией», почетный медицинский знак времен войны с профилем А.В. Суворова и сильными словами «За мужество и любовь к Отечеству». После официальной части мне захотелось поговорить с ним и подробнее узнать его биографию и историю получения наград. Мы отошли в сторонку, где никто не мог помешать нашему разговору. И вот что он мне рассказал:
• Я родился 27 мая 1920 года в селе Новоселки Дмитровского района Московской области. Детей в семье было трое, я – самый старший. Отец и мать были крестьянами-единоличниками, и до 1930 года мы жили неплохо. Была корова, два бычка, большой огород. Плодородная почва позволяла выращивать картошку, капусту, помидоры, баклажаны, болгарский перец.
Так что мы не голодали. Правда, не было у нас своего колодца и приходилось таскать воду издалека. Помогал родителям и я. Меня часто оставляли нянчить брата и сестру, воду (мне отец сделал небольшие ведерки), носил для полива лет с семи. В 1929 году начала
сь коллективизация. Отец, всю свою жизнь проживший на земле, с сожалением смотрел за созданием колхозов. Порядка там не было, оплата непонятная. Не нравился ему коллективный труд на земле, когда начальство учит тебя что сеять и когда снимать урожай. Маме было очень жалко отдавать нашу скотину. Властям самоуправство и непокорность родителей не понравилась. Пришлось нам уехать из села.
Отец запряг в телегу двух бычков, погрузил нехитрый скарб, и мы приехали в Истру (бывший Воскресенск), город недалеко от Москвы. Родителям удалось купить небольшую комнатку в деревянном двухэтажном бараке с печным отоплением. Кухня была общая. Длинный предлинный коридор, по которому вместе с соседскими малышами бегали мои брат и сестра. Внутри все было деревянное. Туалет был на улице. Мыться мы ходили всей семьей в общественную баню. Комната маленькая. Почти все пространство занимал стол, за которым я готовил домашние задания, ужинали и играли в настольные игры. На стене висело большое овальное зеркало. На окнах – простые занавески голубого цвета в белый горошек, взятые мамой из старого дома. Висела книжная полка. Родители спали на кровати, а мы, дети – на полу. Места для огорода не было, отец пошел в пастухи. Каждый день ему давали литр молока, расплачивались также овощами, зерном, хлебом. Так и жили. Здесь я закончил восемь классов в 1935 году. Учился хорошо. После школы часто ходил в городскую библиотеку. Много читал научной и художественной литературы. Поэтому после окончания школы поступил в фельдшерскую школу в Москве. ..любим предметом была химия.
В 1940 году я получил диплом фельдшера, и был направлен на работу в Московскую больницу №1. После начала войны мы, молодежь, (и парни, и девушки), осаждали военкоматы с настойчивыми требованиями отправить нас на фронт. Там нас строго одергивали, велели не торопиться, говорили, что война предстоит долгая, враг очень сильный, повоевать успеют все. Отбор был строгим. Многих признавали не годными, и те со слезами на глазах уныло покидали помещение военкомата. У меня был хронический гастрит и язвенная болезнь желудка (сказывалось нерегулярное скудное питание в детстве), и я очень боялся, что меня тоже «забракуют», и я не попаду на фронт. Но мне «повезло». Положение на фронте было тяжелое, людей в армии не хватало, враг стремительно двигался на восток. Особенно для армии требовались медработники.
И вот в августе 1941 года я был зачислен в штат госпиталя № 1857 в городе Клин Московской области. Боевое крещение принял в памятный каждому клинчанину день – 29 сентября, когда на город внезапно обрушились волна за волной немецкие бомбардировщики. Первое впечатление – было очень страшно. Но мы старались не обращать внимания на бомбардировку, а монотонно, неустанно выполняли свою работу. С фронта постоянно привозили раненых, которым требовалось оказывать экстренную помощь. Много поступало и гражданского населения. Самолетов налетело немало. Куда ни глянь, сыпались вниз бомбы. Непрерывные взрывы, пожары, рушившиеся здания, вой сирен, гул моторов. Люди бежали к реке Сестре, прятались в овражках. Тела погибших лежали на расплавившемся асфальте. Мы, фельдшеры, медсестры и санитары, перевязывали раненых, накладывали шины. Грузили пострадавших на грузовики, которые эвакуировали из города. Гибли и медицинские работники. У нас была медсестра Катя, смешливая блондинка. Смотрю, бежит вдоль дома, придерживая тяжелую санитарную сумку. Остановилась у неподвижного тела. Это, видимо, был убитый. Выпрямилась, хотела бежать дальше. Вижу, словно черная тень рядом с ней несется к земле. Крикнул: «Катя! Бомба!» И тут взрыв. Стена дома вспучилась, и все три или четыре этажа огромной грудой обрушились на Катю. И сразу тугая волна горячего воздуха, и пелена красной от кирпича пыли. Меня сбило с ног. Кое-как поднялся и увидел огромный завал и торчавшие металлические балки. В некоторых местах виднелось пламя. Понял, что нет моей напарницы в живых, и вытащить тело из-под завала не получится. Катя погибла. Здесь теперь ее могила…
Шел, а ноги заплетались. Глаза были влажными от слез. Вокруг раненые, обожженные. Кто-то из наших меня окликает: «Тебя задело?» «Нет… – отвечаю, – Катю убили. Под кирпичным завалом теперь лежит». За один только день целый городок оказался в руинах. Мы еще несколько дней работали в горящем Клину. Погиб санитар, ранило и контузило еще несколько наших сотрудников. За эти дни увидел много такого, что вспоминать тяжело. Обугленные трупы, вплавившиеся в асфальт, матери с убитыми детьми, искалеченные, без руки или ноги. Шок от первого дня прошел, и дальше я уже спокойно выполнял свою работу. Надо было спасать людей.
Перед самым входом немцев в город нас из него эвакуировали в небольшой поселок, километрах в тридцати от Клина. Немцы захватили город 23 ноября 1941 года. Здесь я работал помощником хирурга. Подавал ему инструменты, ассистировал, когда тому требовалась моя помощь. Если спросите, по сколько часов в сутки мы работали, то, пожалуй, и ответить не смогу. Шел сплошной поток раненых. Выглянешь из палатки – уже вечереет, затем наступала ночь, а хирурги продолжали оперировать. Спали урывками, перекусывали на ходу. Это были самые тяжелые дни битвы за Москву. Немецкая оккупация Клина была недолгой. Уже 15 декабря 1941 года силы 30 и 1-й ударной армий освободили город в результате Клинско – Солнечногорской наступательной операции. В эти дни я получил письмо от родителей. Их благополучно эвакуировали в Мордовию, Зубово – Полянский район, и они неплохо обжились на новом месте. Нас снова перевели в освобожденный Клин, в медсанбат №16 21-й дивизии 30-й ударной армии. Но легче здесь не стало. Медсанбат расположился на окраине города, так как в центре все было разрушено. Пострадал даже дом-музей П.И. Чайковского. В городе немцы капитулировали, но теперь наши войска перешли в наступление, и поток раненых, доставляемых с фронта, не уменьшался. Я снова работал с хирургом. Людей не хватало. Поэтому я по-прежнему был и за ассистента, и за операционную сестру, и санитара.
Фамилии хирурга не помню, он был молодой, лет тридцати, звали Алексеем Ивановичем. Он специализировался на ранениях в брюшную полость. А это – самые опасные раны! Не зря солдаты боялись ранения в живот. Мол, если поймаешь осколок или пулю в живот, то все, конец тебе. Алексей Иванович был хирург от Бога. Может быть, глядя на его золотые руки, я и выбрал потом специальность хирурга. Привезут парня, а у него кишечник пулей в трех-четырех местах пробит. Нагноение начинается, содержимое кишок вместе с кровью брюшную полость заливает. Алексей Иванович хлопает мне по плечу, подбадривая меня: «Ну что, Андрюха, начнем?» Оперировали по три, по пять часов. Сложные операции делались. Вырезал Алексей Иванович целые куски, скрупулезно сшивал их, чтобы ни малейшего отверстия не осталось. Наложим шов, боец отходит от наркоза, его увозят. А мы с хирургом закуриваем папиросы и идем вдоль лежащих в ряд раненых, решаем, кого оперировать в первую очередь. Для посторонних – удручающая картина. Мальчишки, мои ровесники 19-20 лет, редко кто старше. В телогрейках, шинелях, валенках. Один совсем без сил, только равнодушно приоткрывает глаза, когда мы осматриваем раны. Другие держатся крепко, с надеждой смотрят на врача. Кто-то без сознания. Лица, покрытые копотью, засохшей кровью, крупные капли пота. Очередь выходит на улицу. Несколько человек, укрытые полушубками и двумя-тремя одеялами, лежат на истоптанном снегу. Я обратил внимание на мальчишку восемнадцати лет. Лицо землистое, безжизненное, но он еще дышит, зажимая ладонями бок. Под пальцами расползается буро-зеленый ком. Вот кого надо срочно оперировать! Но у хирурга свое мнение. – Он безнадежный. Разрывная пуля попала в кишечник. За эти дни я много чего насмотрелся. Что такое разрывная пуля в живот, отчетливо представляю. Десятки мелких, острых, как иголки, осколков превращают внутренности в сито. Кишечник парня издырявлен так, что никаким способом не зашьешь. И пока я неподвижно стоял у обреченного паренька, Алексей Иванович показал санитарам на раненого двумя пулями солдата: «Давайте этого… Андрей, пошли».
Обязанности санитаров обычно выполняли легко раненные солдаты. За соседним столом работал хирург, специализирующейся на ранениях конечностей. Там также сплошной поток солдат с простреленными, перебитыми, а то и оторванными руками-ногами. Бесконечные ампутации, чистка глубоких ран. Пули и осколки дробили кости. И все равно умудрялись собирать их, и большинство раненых возвращались в строй, хотя и не скоро. Спали мы очень мало. Всего около четырех-пяти часов. Проваливались в дремоту, едва добравшись до койки. Кормили нас нормально, но, бывало, и завтрак, и обед пропускали, когда шли сложные операции. Выпьешь крепкого сладкого чая с куском хлеба – и опять в операционную. И, несмотря на то, что я был крепким молодым человеком, не выдержал такого ритма. Пошел за чем-то и прямо на ходу упал. Алексей Иванович с коллегой осмотрели меня и покачали головой. Два дня пролежал я на койке, приходя в себя и отсыпаясь. А затем хирург перевел меня в другую палатку ухаживать за послеоперационными больными.
Это была длинная брезентовая палатка с двумя печками и двумя медсестрами-помощницами и тридцатью бойцами, прооперированными Алексеем Ивановичем. Здесь я понемногу ожил. Хотя и работы было много, но, благодаря помощникам, я имел возможность выспаться. Стал нормально питаться. Да и все же общение с людьми, а не стояние у операционного стола до потери сознания и сердечного приступа. Тридцать тяжелораненых бойцов! Хотя у всех разное состояние. Кто-то начал ходить, разговаривать. Другие, особенно со сложными ранениями в кишечник и печень, в основном, спали или бредили. С теплом в палатке проблем не было. Санитары из выздоравливающих бойцов привозили на санках собранный в округе всякий хлам, ветки, хворост. На грузовиках нам привозили деревянный хлам, обгоревшие доски от разрушенных зданий. Печки небольшие, топить их приходилось постоянно, так как морозы в ту зиму стояли лютые. Перевязки, инъекции, глюкоза, физраствор. В свободную минуту перебросишься парой фраз с санитарами, медсестрами, выздоравливающими бойцами. Здесь я получил первую свою награду – Орден Красной Звезды.
После Московского сражения была Ржевско – Сычевская операция. В 1943 году нашу 30-ю армию преобразовали в 10-ю гвардейскую, которая участвовала в Ржевско- Вяземской операции. Войну я закончил в 1945 году в Риге. Приехал к родителям в мордовское село, где вскоре женился. Родился сын. Через три года еще один. Работал фельдшером в районной больнице. В 1956 году окончил Горьковский медицинский институт. Переехал с семьей в Саранск, работал здесь хирургом, специализировавшимся на брюшной полости: удалял аппендициты, желчный пузырь, вправлял грыжи. В 1999 году умерла моя жена Мария Егоровна. Сейчас я воспитываю четырех правнуков…
2015 год.
"Записки из осажденного города»"
рассказ жителя блокадного Ленинграда.
« – Я не понимал, тогда, всех перемен своей жизни! В марте 1941 года мне исполнилось семь лет, и я с нетерпением стал ждать 1 сентября, сжимая в руке новенький деревянный пенал, подарок родителей, чтобы скорее записаться в первый класс и начать учиться. Я уже умел писать печатные буквы и вполне бегло читал для своего возраста. Увы, в первом классе мне не суждено было учиться, только через год я начал со второго. Но это произошло уже совсем в другой жизни, разделенной пропастью блокады. А в сентябре 1941 года войска немецкой группы армий «Север» под командованием генерала-фельдмаршала фон Лееб, имея существенное превосходство в силах, преодолели сопротивление наших войск, и вышли к окраинам Ленинграда и Ладожскому озеру, отрезав город от тыла страны. Не занятый остался лишь небольшой Невский плацдарм, названный «Невским пяточком», который пересекали легендарные полуторки на пути по Дороге Жизни к Ладожскому озеру. Но это произошло уже совсем в другой жизни, разделенной пропастью блокады».
К моменту начала войны мы с мамой жили в городе Колпино, под Ленинградом. Отсюда сразу же ушел на фронт и мой отец. Уже в июле – августе жители начали покидать город, ленинградский поезд брали штурмом. Люди просто бежали от войны, взяв с собой лишь самое необходимое в узелках и котомках. В толчее при отъезде меня столкнули с перрона под колеса поезда. Мне тогда на миг показалось, что я провалился далеко вниз, но испугаться не успел. – Тут же меня подхватили и вытащили чьи-то руки, втолкнув затем в вагон. Кто тогда мне помог, я не разглядел, так много народу было на вокзале! Да и не до этого было: все вокруг спешили, толкались, торопились…
В Ленинграде мы поселились на проспекте Л. Толстого у моей любимой бабушки Зины. Она работала на одном из городских заводов бухгалтером. Вместе с несколькими подругами-коллегами по работе она решила не ехать в эвакуацию, осталась в Ленинграде, городе, где родилась, выросла и прожила всю свою жизнь. Мама, работала до войны учителем химии и биологии в школе, окончила ускоренные курсы и приступила к обязанностям в больнице имени Раухфуса, ставшей военным госпиталем. Отец писал с фронта, где подробно описывал ставшее привычным всеобщее отступление нашей армии все дальше к Москве. Письма были утешением и одновременно волнением всей нашей семьи в эти долгие и не простые времена. Где-то даже суетные. Какое-то время в доме сохранялись скромные запасы продовольствия. Хозяйственная мама получала по карточкам консервированную фасоль, которую поначалу никто не хотел покупать. Потом она с гордостью вспоминала о своем мудром поступке, так как скоро в магазинах не осталось ни одной крупинки. Многого я еще не понимал в силу своего возраста. Как-то из последних яиц на завтрак мне сделали яичницу. Я раскапризничался, обиделся, что меня заставляют ее есть.
Все чаще при обстрелах мы спускались в бомбоубежище – это был сырой подвал нашего многоквартирного дома. Было ужасно нудно и скучно неподвижно сидеть при слабом свете маленькой лампочки, то и дело мерцающей и гаснущей от раздающихся взрывов. Я развлекал себя как мог. Взрослые постоянно были чем-то заняты. Скучными, как мне казалось, разговорами. В основном они сводились к одному: как дальше жить в таких не человеческих условиях и где искать еду? Ведь скоро зима! Встает вопрос об утеплении жилищных условий. Я был занят другим. Всегда с собой прихватывал какую-нибудь игрушку или букварь. И часто вот так вот, в потемках, среди людской толпы в тесноте забывался и уходил в свой собственный мир, в котором не было бомбежек и взрослых проблем. Тихо гудел игрушечным самосвалом в углу подвала с облупившейся штукатуркой.
Наступила осень. В тот день на мне была легкая ветровка и какие-то теплые ботинки. По тревоге мы не успели добежать до подвала и остановились под аркой дома, прижавшись к стене. И сразу раздался оглушительный взрыв. Я почувствовал, как мимо нас мчится горячий упругий воздух, несущий за собой мелкий мусор, а затем пролетела и целая дверь, по счастью нас не задевшая. Оказалось, это бомба разрушила соседний дом. Вернувшись к себе, мы обнаружили, что окно у нас выворочено вместе с рамой и лежит в середине комнаты. Нашу маленькую семью приютила тесная библиотека, расположенная при заводе, где работала бабушка. Нам выделили под проживание закуток в читальном зале, временно пустующем в связи с войной.
Мы вселились туда сразу. Бабушка на деревянные скамейки положила листы фанеры, а сверху – постели. С нами по соседству поселилась и самая близкая мамина подруга – Оксана Белова с двумя детьми – Машей и Игорем, почти ровесниками, они были немного старше меня. Дети уже ходили в школу: Маша – в третий класс, а Игорь – в пятый. Мы быстро нашли общий язык и подружились. Они проводили со мной свободное время, когда взрослые уходили по делам. Маша делала со мной уроки, Игорь показывал разные фокусы. Небольшое свободное пространство нашей комнаты было занято неприметной печкой-буржуйкой, спасавшей нас в холодный осенне-зимний период.
Всюду нас окружали стеллажи с книгами. При свете коптилки, сделанной из гильзы от снаряда, мы читали вслух. Впервые я услышал «Тома Сойера» и «Трех мушкетеров», которые читали мне друзья. Рано научившись читать, я охотно занимал избыток времени этим увлекательным занятием, которое пронес через всю жизнь и сохранил любовь к чтению до сих пор. Взрослым было некогда. Поэтому у нас, детей, организовалась своя компания, с которой мы переживали трудные годы и взрослели, набираясь опыта. Постоянно работало радио, по которому в момент бомбардировки вражеской авиацией сразу же включалась сирена воздушной тревоги, и мы без промедления бежали к заводскому убежищу. После темного подвала здесь было особенно светло и красиво, но одновременно так холодно, что долго выдержать я не мог и подолгу стучал зубами в читальном зале возле печки, пытаясь согреться.
Конечно, не следует думать, что мы, дети, только и делали, что вели «светскую» жизнь – ходили по гостям и читали хорошие книжки. Основная и непрестанная мысль была о еде. Помню, как все население подвала вышло на улицу и наблюдало красное зарево от горевших Бадаевских складов. Я уже начинал понимать безнадежные интонации взрослых. Никаких запасов еды ни у кого не было. И если мы выжили, то не благодаря, а вопреки.
Мама и бабушка обменивали красивую одежду и вещи на продукты. Санитарка из маминого госпиталя брала вещи, на все имелась своя такса, средняя мера – кружка зерна пшеницы или половина буханки хлеба. На буржуйке в железной кружке варили кашу. Большим подспорьем стала столовая при заводе, к которой были прикреплены, и где на талоны давали суп. Он был двух видов: один – из капустных листьев, другой – из жиденько разведенных дрожжей. Больше ничего не таилось в тарелках, но и эта еда была прекрасной. В праздничные дни в столовой выстраивалась большая очередь: каждому выдавали стакан «лимонада» – напитка на сахарине, подкрашенного из изыска в ярко-розовый цвет.
Приближался Новый год. К нам в гости приходила поболтать пожилая дама. В красивой шубе, пахнущей духами. В прошлом – известная театральная артистка, потом – педагог-репетитор. К Новому году она раздобыла где-то елку и вместе с ней принесла елочные украшения. Однако блестящие шары не принесли радости – на столе совсем ничего не было, а взрослые принялись мечтать о еде. Рассказывали о том, что в одной счастливой семье обнаружилась старая кушетка с матрасом из морских водорослей, которые могут стать прекрасным питательным салатом. Затем предались воспоминаниям о том, что, бывало ели на Новый год, назывался даже гусь с яблоками. Я не знал, каков он на вкус, и это казалось мне особенно обидным.
Жить становилось все труднее. Хлеб тщательно делили, и каждый съедал свои крохотные кусочки в два приема – утром и во вторую половину дня. Это правило никогда не нарушалось. Меня отправляли гулять вдоль канала до Невского или в другую сторону, мимо храма На Крови. Его я очень боялся, так как он был совершенно черным. Говорили, что туда складывают трупы. Как-то во время прогулки на пути встретилась редкая легковая машина «Эмка». Хорошо помню возникшую мысль: можно броситься под машину. Одновременно я четко понимал, что не хочу смерти, и тут возникло радостное соображение: не съедена вечерняя порция хлеба!
После Нового года мы переселились из читального зала. Бабушке выделили комнату в заводском общежитии. Обстановку составляли две кровати, буржуйка, посередине стоял большой бутафорский пень, такой крепкий, что на нем кололи поленья, и он же служил столом. С пропитанием день ото дня становилось хуже. И тогда пришло спасение, чудо, которое случается, когда уже не на что надеяться. Мама обладала хорошим голосом и подрабатывала в шефских концертных бригадах, выступавших в госпиталях. И ей неожиданно предложили поездку за линию блокады к войскам, размещавшимся по деревням. Ехать нужно было по ладожской «дороге жизни» в открытом грузовике. Несмотря на жестокий февральский мороз, угрозы из-за обстрелов угодить в полынью, она никаких колебаний не испытывала – возникла возможность в деревне произвести обмен. Оставалось выбрать наиболее ценное из сохранившихся вещей. Таким оказался костюм моего папы, который должен был спасти наши жизни. Мама положила его на дно своего фибрового чемодана, в котором везла концертный наряд и коробку с гримом. Перед отъездом актеров собрал упитанный политрук и строго предупредил,чтобы не производили никаких обменов и чтобы никто не рассказывал о голоде в Ленинграде. И все же в деревне, дождавшись безлунной ночи, мама пробралась в намеченную днем избу. Обмен состоялся. Она получила мешок картошки и кулечек гречневой крупы. Продукты мама запихала в чемодан, но в решительный момент ручка его не выдержала тяжести и оборвалась. Ей предстояло нести свое сокровище, делая вид, что чемодан пуст. Когда эти мытарства остались позади, нам ее возвращение запомнилось, как один из наиболее радостных дней жизни. Картошку экономили, из кожуры делали оладьи.
Но все кончается. К весне бабушка слегла с высокой температурой и цинготными язвами на ногах. Из госпиталя вызвали врача. Он долго извинялся, идти ему пришлось пешком через весь город. На его опухших ногах были только калоши, подвязанные веревочками. Осмотрев бабушку, он сказал: «Вы нуждаетесь лишь в одном лечении – питании». В его власти оказалось выписать в день по стакану соевого молока, которое давали раненым. Я ходил за ним раз в несколько дней. В мае стали покупать крапиву, из которой варили щи, добавляя туда что-то странное, химическое, оседавшее на дне.
К весне стала работать баня на Чайковского. Изредка мы в нее выбирались. Женщины рассматривали друг друга, мысленно сравнивая, кто худее. Мы, дети, стали выходить играть во дворик, выносили сохранившиеся игрушки. И все же особых надежд на улучшение не было. Бабушка почти не вставала. Мама принялась хлопотать о разрешении на эвакуацию. Подробностей не знаю, помню, что были большие волнения, суматоха. Май приготовил еще одну радость. К нам с мамой подошел на улице военный, у которого здесь погибла семья, и не осталось дома. Он попросил разрешения зайти и несколько раз приходил к нам. В связи с праздником, каким именно, не знаю. Он попросил маму приехать к ним с концертной бригадой и, так как предполагается банкет, пригласил меня и маму. Желающих поехать актеров собралось столько, что концерт мог продолжаться всю ночь. В присланном за ними автобусе мы ехали недолго, но стреляли уже так близко, будто за соседними деревьями. Мы шли в помещение, прячась за кустами сирени. Выстрелы были уже всем привычны. Во всяком случае, я страха не ощущал. Концерт имел большой успех. Мама выступила блестяще и превзошла сама себя. Но вот настал великий час – нас пригласили к столу. Никакие описания пиров не затмят той трапезы, которую мы вкушали. Нам подали картошку с тушенкой и к ним еще белый хлеб с маслом. Но и это было не все: на третье был настоящий сладкий компот из сушеных абрикосов, а мне – добавочная порция. Не забыть и ощущения счастья, когда мы возвращались такими сытыми, впервые за прошедший год войны. Помню, мама украдкой незаметно положила часть еды в пакет для бабушки. Ей тогда это принесло некоторое облегчение.
В июле начался долгий путь из войны, путь голода, холода, в теплый, почти мирный, Ташкент, в эвакуацию. Этот путь мы преодолели без потерь. Ладогу, беспрестанно обстреливаемую, пересекли на пароходике. Долго ехали в теплушках, чаще стояли, выбегали, прятались, в то же время, боясь отстать от поезда. В конце концов, погрузились на волжский теплоход, один из последних, который беспрепятственно доплыл до Астрахани. Светлая каюта, зеленые берега, бегущая вода – после разрушенного города нам казалось, что мы в раю. Папу мы дождались уже после войны, в 1945-м, целого и невредимого, прошедшего всю войну от Москвы до Берлина, с грудью, полной орденов и медалей. Мне он привез тогда игрушечный паровоз, который неизвестно где достал в Германии, маме – цветную косынку, а своей маме, бабушке Зине – новенький транзистор, который долго слушали всей семьей до появления телевизора. Здесь, среди жаркого и сухого климата, бабушке стало лучше. Я пошел в местную школу, быстро схватывая все на лету! И храня до сих пор подарок отца как память о непростом и тяжелом этапе моей жизни, выпавшем на детский радостный период.