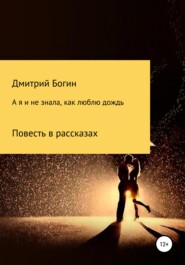По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сборник рассказов о Великой Отечественной войне. 75-летию Великой Победы посвящается!
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я сказал Зинченко, что обижаться не следует,надо пробираться в рейхстаг, что войск у него нет, руководить некем, а отсиживаться на НП неудобно».
О водружении флага над рейхстагом было немедленно сообщено в штаб фронта. Генерал Кузнецов в 16.00 подписал соответствующий приказ.
После того, как были отбиты немецкие контратаки с флангов, советская пехота в 18.00 бросилась к главному входу рейхстага. С вводом вторых эшелонов его судьба была решена окончательно. Около 18.30 группа бойцов 1-го батальона 736-го СП под командованием В.Н. Макова – сержанты Г.К. Загитов, А.Ф. Лисименко, М.П. Минин – тоже поднялась на крышу и закрепила флаг на фронтоне. Час спустя прибыл полковник Зинченко, установил связь с командиром дивизии и был назначен им комендантом рейхстага.
По свидетельству очевидцев, лейтенант Сорокин, увидев телефон, попросил разрешения позвонить и, будучи допущенным к аппарату, начал докладывать Плеходанову о том, что Знамя Победы водружено на крыше рейхстага. В этот момент полковник Зинченко выхватил из рук лейтенанта телефонную трубку и «со всей силой ударил его по голове». Сложилась интересная ситуация. На здании по-прежнему развевалась дурацкая «перина» без заезды, серпа и молота, а Знамя №5 со всей положенной атрибутикой находилось неизвестно где. Так же, как и прикрепленные к нему знаменосцы.
Из записок подполковника А.Д. Плехадонова: «То ли в горячке боя, или же, не придавая этому вопросу особого значения, а,может быть, и потому, что на крыше уже было знамя моих разведчиков, о Знамени Военного совета все как-то забыли. Спохватились поздно ночью. По приказу Зинченко (а Зинченко действовал по приказу Шатилова) была выделена группа бойцов на срочные розыски Егорова и Кантарии. Их нашли только к рассвету Первого мая где-то в обозе 756-го полка. Но Знамени Военного совета с ними уже не оказалось. Тогда Зинченко раздобыл где-то новое знамя, вручил его Егорову и Кантарии, окружил их (на всякий случай, чтобы снова не «затерялись») автоматчиками и приказал установить знамя где-нибудь на крыше (купол был разбит). Те так и сделали».
Из воспоминаний В.Н. Праворотова: «Поздно ночью мы встретились с пехотинцами из другого полка – Егоровым и Кантарией. Сопровождаемые группой автоматчиков, они несли Знамя Военного совета армии. Егоров обратился к нам:
• Выручайте, товарищи! Как пробраться на крышу?
Мы показали им дорогу, вместе с ними поднялись на крышу. Здесь рядом с нашим флагом, у скульптурной группы, мы помогли пехотинцам укрепить Знамя Военного совета нашей армии. Я лично к Егорову и Кантарии никаких претензий не имею. – Славные ребята. И ничего они себе не приписывали, наоборот, скромные хлопцы. Так, Егорова и Кантарию приглашали присоединиться к группе воинов, салютующих Знамени, но они, проявив тогда солдатскую скромность, отказались, в отличие от их командира, капитана Неустроева, который поступил совсем иначе».
К званию Героя был представлен лейтенант Сорокин. «Он со своим взводом разведки 674 СР 30.04.45 г. в 14 ч. 25 м. Водрузил над рейхстагом Знамя Победы». И на пятерых разведчиков в корпусе и армии были подписаны геройские листы. Вот только Золотых Звезд никто из них не получил. Переписывать историю и ваять легенду начали практически сразу.
Для начала от участия в штурме рейхстага «отстранили» 171-ю сд. Затем забыли про 674-й сп: бойцы Сорокина, оказывается, установили свое знамя только в окне второго этажа. Вообще: «весь рейхстаг был в красных флагах, а официальное знамя только одно». Главными героями штурма рейхстага стали Егоров и Кантария, водрузившие на самый купол «настоящее знамя», а также их прямые начальники – комбат Неустроев и комполка Зинченко.
Из записок подполковника А.Д. Плеходанова: «После Дня Победы наш полк, выполнив порученное задание, вернулся в свою дивизию. Вскоре в честь героев штурма рейхстага командование корпуса решило устроить банкет. Это было на даче Геринга. Командир корпуса, глядя на листок бумаги, провозгласил тост. Назвав командира дивизии В. Шатилова, воинов 756-го полка Ф. Зинченко, С. Неустроева, И. Сьянова, Береста, Егорова, Кантария, а затем лишь упомянув мое имя, моего заместителя по политчасти Субботина, командира батальона Давыдова, командира роты Греченкова. Тогда из-за стола встала врач медсанчасти Р. Дроздова, которая отлично знала, кто штурмовал рейхстаг, кто первым проник туда и водрузил Знамя Победы. Она сказала:
– Так это и есть все герои штурма рейхстага? Позвольте, а где же остальные герои и, в частности, разведчики 674-го полка, которые первыми ворвались в рейхстаг и водрузили на нем Знамя Победы?
– На банкет приглашены только офицеры, – ответил В. Шатилов.
– Но я вижу вон Егорова и Кантария. Какое отношение имеют они к Знамени Победы? Если говорить честно, я больше на это имею право. Во время всех трех штурмов рейхстага я находилась на НП полка Плеходанова. Вместе с Плеходановым я вошла в рейхстаг. А Егоров и Кантария пришли на много часов позже меня. Да еще вдобавок к тому – под охраной».
Среди собравшихся произошло замешательство. Люди стали перешептываться. Назревал скандал. Чтобы избежать его, мы, офицеры 674-го полка, убрались восвояси. Банкет не получился…».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года полковнику Зинченко было присвоено звание Героя Советского Союза. 8 мая 1946 года Героями стали Егоров, Кантария, комбат Самсонов. Разведчикам Сорокина отвесили по ордену Красного Знамени. Впрочем, они их тоже не получили. Павел Брюховецкий ушел на гражданку с двумя медалями: «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».
В ответ подполковник Плеходанов написал в 1966 году статью «Как совершалась афера века», в конце которой подчеркивает: «… Вот уже два десятка лет чествуют тех, кто убежал с поля боя, кто никакого отношения не имеет к взятию рейхстага и водружению на нем Знамени Победы». Кому нужна эта ложь, какой цели она служит? Этой фальсификации нужно положить конец». Опубликовано в центральной печати этой статьи, конечно же, не было.
Так и выходит, что мы до сих пор штурмуем рейхстаг!!! Зачем?! Зачем мы до сих пор искажаем факты – ведь победители все-таки мы?
30 апреля, примерно в 15.30, Адольф Гитлер застрелился. Берлинская наступательная операция закончилась 8 мая 1945 года. С падением столицы – Третий рейх потерял всякую возможность ведения организованной вооруженной борьбы. В ходе операции было взято в плен 480 тысяч солдат и офицеров, захвачено в качестве трофеев до 11 тысяч орудий и минометов, более 1,5 тысячи танков и САУ, 4,5 тысячи самолетов.
Защитники Берлина сражались до конца. О степени ожесточенности боев свидетельствуют потери трех фронтов. Даже по самым официальным данным, без учета двух польских армий, они составили 352 тысячи человек, из них безвозвратно – 78 тысяч (по другим данным, более 102 тысяч), 20108 орудий и минометов, 917 самолетов, 1997 танков и САУ. По интенсивности среднесуточных потерь – 15335 человек – Берлинская операция превосходит самые кровопролитные сражения 1943 года.
Вечная память павшим в этой Великой войне!
2015 год.
"Война глазами подростка".
воспоминания участника войны, очевидца боевых действий.
Я, Воробьев Павел Михайлович, родился в Дубенском районе Тульской области в селе Воскресенском. В 1930 году после раскулачивания мои родители вместе со мной и старшим братом переехали в Тулу. Поселились в частном доме, в центре города на улице Коммунаров (ныне проспект Ленина). В 1940 году закончил 7 классов средней школы №10. По окончании школы хотел поступать в Ремесленное училище, но сделать этого не удалось. Мой отец стал инвалидом, пострадавшим на производстве, и не мог больше работать, поэтому вся надежда была на меня, так как старший брат служил в рядах Красной Армии. Как мог, я помогал выжить своим родителям в те трудные годы.
Война застала меня осенью 29 октября 1941 года, когда немецко-фашистские войска подошли к Туле. Был легкий осенний морозец. Из сводки Совинформбюро я с товарищами узнал, что к городу вышла 2-я группа немецких войск под командованием генерал-полковника Гудериана. Группа натолкнулась на оборону наших войск, усиленную поставленными на прямую наводку зенитными орудиями ПВО города Тулы. А 30 октября 1941 года в 9 часов утра начался обстрел улиц города. Сразу же после этого в течение нескольких дней были организованы отряды из подростков для отправки на рытье окопов, траншей и противотанковых рвов. Лошадь тянет плуг, а мы выбрасываем землю. Ночевали в каком-то сарае. В один из таких отрядов попал и я, а также хорошо знакомые мне ребята, мои товарищи. Периодически случались авиа налеты. Мы копали под непрерывным огнем немецкой авиации – истребителей и бомбардировщиков. Выполняли не по возрасту тяжелую физическую работу, потому что очень хотели внести свою лепту в оборону родного города. У нас был большой энтузиазм. Мы все умели. Каждый из нас имел комплекс ГТО (Готов к Труду и Обороне) и соответствующий значок. Мы умели стрелять и обращаться с оружием. У девочек тоже был такой комплекс, и каждая умела перевязать раненого и оказать первую помощь. Эта подготовка сыграла огромную роль в нашей общей советской победе. Они оказывали помощь медицинских сестер и санитаров. И их помощь мы ценили по-особому, так как раненых изо дня в день все прибывало. Много погибало моих ровесников на рытье окопов. Много ребят падало замертво прямо с лопатой в руках в недорытые окопы. Раненых наши девчонки тут же старались дотащить до медпункта. Много гибло и девочек. Я все это видел и уже, наверное, не забуду никогда. Был ранен шальной пулей и я. Но не сильно, по касательной, так что обошлось только банальной перевязкой. Но сколько товарищей полегло там! И не солдат-бойцов, а простых мальчишек 15-16 лет…
С 18 ноября, когда немцы предприняли первую попытку окружить Тулу, наши отряды были направлены на сооружение оборонительных рубежей города. Мой отряд до 5 декабря включительно сооружал эти рубежи, после чего нас направили на строительство баррикад. Они строились из всего, что попадалось под руку: из разрезанных деревьев, из камня разбомбленных домов, из мешков с песком, из брусчатки, которую снимали с мостовых. Не прекращая работы на баррикадах, я каждый день носился домой, к родителям. Мама всегда заботливо кормила меня той скудной пищей, которая была. Бывало, она давала что-то и для раненых товарищей. Отец за последнее время очень ослабел и уже редко вставал с кровати. Присоединилась какая-то простуда. По-видимому, от недостатка протопки помещения. Дров не хватало катастрофически, чего уж говорить про уголь. Мать, иногда оставляя отца одного, ходила с соседками на другую, свободную от немцев, окраину города на торфоразработки. Это был их скромный заработок – вместо денег здесь давали хлеб, а иногда она приносила немного торфа домой, хотя этого и не разрешали делать. Многих за это штрафовали и даже арестовывали. Но мать, слава Богу, не попалась ни разу.
Каждый раз, бывая дома, я перечитывал по несколько раз письма с фронта от старшего брата Бориса. Он служил на Краснознаменском Балтийском Флоте артиллеристом на эсминце. Судя по письмам, служба проходила весело и беззаботно, даже, несмотря на боевые действия. Он писал, что, будучи в увольнении в Ленинграде, он познакомился с девушкой, которая, возможно, станет его женой. Писал он также и о том, как топил вражеские торпедные катера и корабли, и как всякий раз их судно гордо возвращалось с боевого задания.
Баррикады строились до конца обороны Тулы, как обычно говориться, «надежда умирает последней». Город обороняли стойко, до последней возможности, дабы не пустить немцев к Москве. Надо сказать, что в этот период с октября по декабрь 1941 года в течение 43-х дней ключевой стратегический пункт обороны города Тулы находился в полуокружении, подвергался артиллерийскому и минометному обстрелу, воздушным налетам люфтваффе и танковым атакам. Тем не менее, линия фронта на южных подступах к Москве была стабилизирована. Удержание города Тулы обеспечило устойчивость левого фланга Западного фронта, оттянув на себя все силы 4-й полевой армии Вермахта и сорвав план обхода Москвы с востока 2-й танковой армией. Во время второго генерального наступления немецких войск 18 ноября – 5 декабря, несмотря на некоторые успехи, им не удалось осуществить прорыв к Москве на южном направлении и выполнить поставленные перед ними задачи. 5 декабря 1941 года немецкая 2-я танковая армия, разбросанная по фронту на 350 км, получила приказ о переходе к обороне. Исчерпав свои наступательные возможности, части 2-й танковой армии начали отход из опасного для нее выступа, образованного северо-восточнее Тулы, на рубеж – железная дорога Тула-Узловая, река Дон. После того, как 6 декабря активность немецких войск на тульском направлении затихла, советские войска, получив усиление, предприняли контрудар. Целью операции было разгромить ударную группировку немецких войск, действовавшую на тульском направлении, и ликвидировать угрозу обхода Москвы с юга. Так что можно с уверенностью сказать, что Тула оправдывает свое название город-герой. Город защищался очень крепко как действующей армией, так и простым народом, перешедшим в ополчение и партизаны.
В помощь частям 10-й армии под командованием генерала Филиппа Ивановича Голикова, отбросившего 2-ю танковую армию Гудериана за 200 км от Москвы, а также 50-й армии Ивана Васильевича Болдина, закрепившей успех 10-й армии и перешедшей в контрнаступление, активно велась подпольная и партизанская работа, которая для некоторых немецких солдат стала гораздо ужаснее действий Красной Армии. Самые первые подпольные партизанские отряды стали формироваться уже к приближению первых танковых войск Гудериана. Практически одновременно с созданием подростковых отрядов. Многие подростки (а в том числе был и я) шли в подполье. В первые осенние дни бомбардировки города я не выходил из катакомб (развалин зданий), служивших убежищем для партизан. Меня на этот период освободили от рытья окопов и блиндажей. Но я был рад спустя две недели выбраться на свет и отправится работать вместе со всеми. Прячась в катакомбах, я чуть было не ослеп, но, к счастью все обошлось. За период, что я провел там, родители уже успели похоронить меня, думая, что я погиб на рытье окопов. Поэтому долгое время не хотели меня отпускать, но я вырывался и сбегал. Вскоре мне и моим товарищам было поручено первое особое задание поджога ключевых объектов противника в небольшой захваченной деревеньке на подступах к Туле. Группа мальчишек и девчонок, в основном одного со мной возраста или года на два постарше, была выстроена в коридоре городского управления НКВД. Официально это сверхсекретное заведение именовалось войсковой частью 1417. На нас была теплая верхняя одежда – ватники, фуфайки и тулупы. Я был в своем домашнем пальто. За нашими плечами – вещевые мешки с продовольствием, толом, боеприпасами, керосином и спичками: у мальчишек они достигали в весе 19 килограммов, у девчонок – поменьше. У девочек на армейских ремнях под пальто и ватниками – пистолеты. Нам же были выданы винтовки. Каждый диверсант выходил из строя, подходил к столу и расписывался в том, что ознакомлен с текстом боевого задания для всей группы. Вот дословный текст нашего первого задания группы, в которую я входил: «Вам надлежит воспрепятствовать подвозу боеприпасов, горючего, продовольствия и живой силы путем взрыва и поджога мостов, минирования дорог, устройства засад в районе дороги Сосново-Красные Горы. Задача считается выполненной, если: а) уничтожить 5-7 автомашин и мотоциклов; б) уничтожить 2-3 моста; в) сжечь 1-2 склада с горючим и боеприпасами; г) уничтожить 15-20 офицеров».
В тылу у врага мы могли отдохнуть лишь на рассвете и днем, по возможности под хвойными деревьями, чтобы меньше вымокнуть при снегопаде. Каждый боец должен был вытоптать углубление в снегу, застелить еловым лапником и ложиться на 2-3 часа спать. Просыпались мы от холода. За сутки проходили до 20 километров. А вот какую инициативу проявил я в своем походе. В лесу под деревьями вблизи большой дороги, по которой то и дело в сторону Тулы мчались немецкие мотоциклы, валялся проржавевший металлический трос. Я предложил протянуть его поперек дороги. Вскоре в темноте на него наткнулся вражеский мотоциклист. Девчонки подбежали к нему, свалили на землю, придушили, забрали с собой его полевую сумку. Уже после возвращения мы узнали от майора Соколова о том, что в сумке у гитлеровца были ценные карты и планы предстоящих немецких боевых действий на подступах к столице. Задание было успешно выполнено.
Однако не все так гладко у нас проходило. «Несколько дней мы двигались вперед, разбрасывали колючки, ребята ходили минировать большак. Продукты подходили к концу, остатки сухарей стали горькими от неосторожного обращения с толом. В группе появились больные (я простыл – заболели уши), и командир принял решение возвращаться. Но я заявил, что, несмотря ни на что, мы должны были еще лучше выполнить задание. На базу вернулись 11 ноября».
Начинался этот приказ необычно. Вместо вступительного обращения к тем, кому надлежало непосредственно исполнять сей приказ, вождь брал что называется, быка за рога: «Самонадеянный до наглости противник собирался зимовать в теплых домах Москвы и Ленинграда… Лишить германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом – такова неотложная задача».
Кроме поджога жилищ, в которых располагались наступавшие на Тулу немецкие части, нужно было еще уничтожить в деревне Соколовка и аппаратуру германской армейской радиоразведки, умело замаскированной в этой глухомани. Нацистские асы – радио перехватчики в наушниках круглосуточно умело прослушивали армейские штабы, глушили переговоры советских командиров с войсками. Жуков готовил в те дни наше знаменитое контрнаступление под Москвой. Он настоятельно требовал от Главного Разведывательного Управления хотя бы на какое-то время вывести из строя этот германский армейский радиоцентр. С этой задачей умело справились я и мои товарищи. Я же спалил дотла и армейскую конюшню врага, в которой на момент пожара в стойле были на привязи 17 боевых коней, которых оккупанты доставили аж из самой Германии, запас фуража для лошадей и большое количество оружия. Признаться, я немного заробел и разнервничался. Но, быстро собрав волю в кулак, вместе с группой товарищей из пяти человек я стал собираться в путь. Было уже довольно холодно, промозглый ветер пробирал до костей, не спасали даже шинели, любезно выданные нам в штабе диверсионного подполья. Деревня была очень хорошо защищена немцами. Мы обошли ее с тыла и незаметно проползли к сараям с припасами и лошадьми. Я обливал керосином постройки, а мой приятель Илюха Ветров шел за мной следом и поджигал. Когда я добрался до первой из конюшен, сердце вдруг как-то сжалось от жалости к лошадям. Это мое промедление чуть не стоило нам жизни. Один из немецких часовых поднял тревогу, и в нашу сторону побежали солдаты. Не растерявшись, мы сняли с плеч винтовки и на ходу стали палить по немцам. Здесь я впервые убил человека. Мы столкнулись нос к носу с немецким часовым, который замешкался, увидев перед собой подростка, я же, державший винтовку на изготовке, выстрелил ему в грудь. Немец упал, а я с минуту стоял в какой-то прострации, пока мой другой товарищ Федька Петров не схватил меня за рукав и не утащил к ближайшим голым кустам. Позже, наше командование было удивлено, что мы так быстро, ловко и без потерь успешно выполнили задание, подожгли немецкие склады и занятые ими постройки, оставив их без подкрепления, боеприпасов и еды. Тем самым мы сделали огромную услугу нашим частям. Это была моя первая операция, которую я не забуду никогда. О своем успехе я писал брату. Он был очень горд мной. Родителям же я не сказал, боясь, что они бы этого просто не выдержали и в следующий раз не отпустили бы меня сражаться с врагом.
Жителям Тулы повезло: немцы не смогли войти в город, не хватило сил для атаки. Если бы они вошли своим триумфальным маршем, как в другие города, тут же начались бы облавы комсомольцев, коммунистов и прочих партийных активистов. Пропала бы и наша семья. Отец был членом партии, я – комсомольцем.
Вторым заданием было выполнение приказа Сталина о выкуривании немцев из теплых жилищ на мороз, чтобы не дать врагу перезимовать в теплых, занятых ими, деревенских избах, и начать новую атаку весной. И здесь я и мои товарищи были на высоте, без потерь, уже мастерски, получив опыт первой вылазки, мы получили похвальные листы от имени главы государства из рук руководителя диверсионной бригады майора Соколова. Вообще начало войны прошло для меня довольно-таки тяжело. Голодное военное время, тяжелая физическая работа на фронте. Все это закалило мой характер. Я был рад тому дню, когда части 290-й стрелковой дивизии 50-й армии вошли в наш город выйдя из немецкого окружения под Брянском, куда они попали еще осенью 1941 года. И вот в один из пасмурных дней части этой армии вошли в Тулу для перевооружения и пополнения. Так как людей им не хватало, наше подпольное командование приняло решение отправить меня и еще нескольких ребят с ними, выдав нам кирки и лопаты для рытья окопов. Наш отряд из 60 человек прикрепили к 101-му пехотному полку. Попрощавшись вечером с родными, мы отправились в путь на запад. Ровно в 11.00 по приказу сопровождающего нас офицера мы были отправлены в сторону села Ясенево для рытья траншей и ходов сообщения, пока нас не догонит и не подменит подошедший 101-й пехотный полк. Вскоре для нас началось обучение красноармейской жизни. Мы приняли присягу на верность Красной Армии и получили направление освобождать Смоленск. Первое крещение боем возле небольшой железнодорожной станции вблизи Смоленска.
После освобождения Могилева 290-я стрелковая дивизия была переименована в Могилевскую, и я принял гвардейскую клятву верности 101-му пехотному полку. Дальше мы уже шли по территории Белоруссии, на Запад, освобождая один за другим города. Нас всюду встречали радостно, как победителей. 1 августа форсировали Вислу. В одном из боев 3 августа 1944 года я получил осколочное ранение в руку, голову и ногу и провел в местном госпитале №1264 почти 3 месяца. После реабилитации в госпитале попал в 1-ый гвардейский танковый корпус 121-го отдельного минометного батальона. Я был минометчиком и носил 82-й миллиметровый миномет. Было нелегко, из-за часто меняющихся позиций приходилось порой по нескольку километров носить на плече тяжелый миномет. Прошел я с боями в 121-м отдельном минометном батальоне до самого Рейхстага, но до этого мы освобождали польские города. 20 апреля 1945 года наш батальон вошел в Берлин, где предстояли около 2-х недель тяжелейших боев, ведь немцы обороняли каждый дом, каждую улицу, каждую площадь…
Наконец настал долгожданный день – день Победы. Во время празднования Победы среди красноармейцев разгула не было. Была строгая военная дисциплина. Мы были еще в полной боевой готовности, ведь еще изредка раздавались выстрелы, и в городе было немало вооруженных нацистов. Если нам встречался нацист с белой повязкой на плече, то мы не имели права в него стрелять. Мы отбирали у него оружие и отводили в места, где собирали пленных. Красная Армия, в отличие от армии Гитлера, вела себя культурно, захватив город. Мы не грабили магазины, не трогали мирных жителей, не дебоширили. Перед вступлением на немецкую границу нам зачитали приказ о том, что изнасилование и мародерство караются военным трибуналом.
Победой над гитлеровской Германией служба в армии для меня не закончилась. Наш батальон направили в Лейпциг, где до ноября он был в полной боевой готовности. И лишь в начале 1946 года я вернулся домой. Здесь меня уже встречал старший брат Борис с той девушкой, с которой он познакомился в Ленинграде, и о которой так много писал в своих письмах.
Постаревшие родители обняли вновь обретенного сына. Вскоре сыграли свадьбу Бориса и Людмилы. И с этого момента для меня начались мирные будни. Я окончил курсы шоферов, работал в гараже «Глав строя», затем – вулканизатором на заводе радиотехнических изделий. На этом заводе в 1949 году я познакомился со своей будущей супругой – Анной Селянской. В тот день она пришла к своей подруге, которая была моей сотрудницей, и на проходной мы впервые с ней встретились взглядами. Позже она призналась, что «между нами промелькнула какая-то искра, произошёл какой-то выстрел». Несомненно, это была любовь с первого взгляда. И вот уже 60 лет, как мы вместе. Мы по-прежнему любим друг друга с такой же силой, как и шесть десятилетий назад. Наша семья, пусть не очень большая (два сына, два внука и один правнук), но зато очень дружная. Мы никогда не ссоримся, и всегда помогаем друг другу. Наверное, в этом и кроется секрет нашего долголетия и супружества. Также хорошо сложилась жизнь и у старшего брата и его жены. У них пятеро детей. К сожалению, сегодня Бориса уже нет в живых, но мы продолжаем общаться с его вдовой, детьми и внуками.
2012 год.
"Севастополь – крепость герой".
рассказ.
Одной из страниц истории Второй мировой войны, безусловно, является героическая оборона города и главной военно-морской базы Черноморского флота с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года.
До войны Севастополь был подготовлен только для обороны с моря и с воздуха. Система сухопутной обороны города начала создаваться в июле 1941 года. Она включала 3 оборонительных рубежа (передовой, главный, тыловой), оборудование которых к моменту выхода немецко-фашистских войск на ближние подступы к городу (30 октября 1941 г.) не было закончено.
Первый оборонительный рубеж имел в глубину от 1,5 до 3 км и состоял из защищенных заграждений из колючей проволоки четырех линий окопов, между которыми располагались деревянные опорные пункты и бетонные доты с установленными перед ними противотанковыми и противопехотными минами.
Второй ряд имел в длину до 1,5 км, на котором, особенно в северном секторе между долиной Бельбека и бухтой Северная, располагалось несколько особо мощных укреплений, которым немецкие артиллерийские наблюдатели присвоили легко запоминающиеся названия: «Сталин», «Молотов», «Волга», «Сибирь», «ГПУ» и – сверх всего – «Максим Горький I», где дислоцировалась батарея 12-дюймовых орудий (305 мм). Аналогичный форт, прозванный «Максим Горький I”, находился южнее Севастополя и имел такое же вооружение. С восточной стороны города были оборудованы огневые позиции «Орлиное гнездо», «Сахарная голова», «Северный нос» и «Розовая гора» на скалистых холмах и оврагах, на выгодных для защитников города позициях.
Третий пояс пролегал сразу же за городской чертой и представлял собой целый лабиринт траншей, пулеметных точек, артиллерийских и минометных позиций.
Севастополь обороняли семь стрелковых дивизий, одна спешенная кавалерийская дивизия, две стрелковых, три морских бригад, два полка морской пехоты, а также танковые батальоны и различные отдельные части – всего 101238 человек. Десять артиллерийских танков и два минометных дивизиона, полк противотанковых пушек и сорок тяжелых морских орудий. – Всего в обороне фронта применялось 600 артиллерийских стволов и 2000 минометов. Сухопутные войска и силы флота, защищавшие город, были объединены в Севастопольский оборонительный район (СОР), в который вошла Приморская армия.
О героях обороны Севастополя написано много книг, снято много кинофильмов. 250-дневная Севастопольская оборона вошла в военную историю как образец длительной активной обороны приморского города и крупной военно-морской базы, оставшихся в глубоком тылу противника. Надолго сковав значительные силы немецко-румынских войск и нанеся им большой урон, защитники Севастополя нарушили планы германского командования на южном крыле советско-германского фронта. За боевые отличия 46 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. В ознаменование подвигов защитников города Президиум ВС СССР 22 декабря 1942 года учредил медаль «За оборону Севастополя», которой награждено свыше 39 тысяч человек.