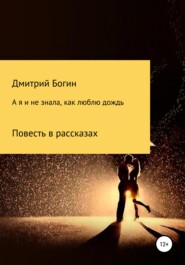По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сборник рассказов о Великой Отечественной войне. 75-летию Великой Победы посвящается!
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В истории человечества было очень много драм на море, и если спросить простого обывателя о каком-то наиболее крупном морском кораблекрушении, большинство, конечно же, вспомнят «Титаник». Тогда действительно погибло более 1500 человек. Но это событие произошло не в России, хотя русские на его борту присутствовали. Судно было английским. А истории, между прочим, известны не менее драматические события на море, происходившие не только в других странах, но и у нас, в России. Одно из них, которое я хочу описать со слов его очевидца, случилось во время Великой Отечественной войны, и, по своим меркам я считаю, не уступает катастрофе на «Титанике».
Это произошло ранней осенью 1941 года. А именно 16 сентября. В это самое время немецкие войска были на марше. Они громили нашу армию в пух и прах. Заставляли наших солдат отступать все дальше и дальше к Москве. План «Блицкриг» – молниеносная война пока удавался. Немцы атаковали на всех направлениях. Подошли они и к моему городу – Ленинграду! Окружив его в кольцо блокады по суше. Тогда-то и стали предприниматься отчаянные попытки эвакуировать из осажденного города как можно больше людей через озеро Ладога.
Мне тогда было всего 15, а братишке – 8. А еще с нами остались мама и старенькая бабушка, которая проводила на фронт единственного сына – моего отца. Он ушел на фронт старшиной, и назначили его командиром танка №18. Об этом он писал нам в письмах. Мы с Ильей часто перечитывали письма отца с фронта друг друге и маме с бабушкой. Особенно мне нравилось читать не о боевых действиях, а о простых армейских буднях. Наверное, чтобы не пугать нас, он много веселого и интересного писал о том, что случилось с экипажем его танка. Мне, как и моим сверстникам в то время, тоже хотелось отправится на фронт и повоевать. Но то, что случилось с нами в ту чудовищную ночь, перевернуло все мои представления о войне. И этого я не забуду никогда!
Всех жителей осажденного города стали эвакуировать в тыл. Мама тогда сказала нам с братом строго: «Отправляйтесь и ничего не бойтесь! Вы молодые, и вам придется отстраивать страну после войны, а я останусь с бабушкой. Как-нибудь переживем эти трудные дни».
Как я уже сказал, мне было тогда всего 15 лет, и я, признаться, сильно обрадовался, что меня считают уже взрослым, и что я один, без родителей, повезу братишку в тихий и спокойный тыл. Конечно, тяжело было расставаться с родными, но я пересилил свои чувства и стал собирать в дорогу рюкзак, с которым еще недавно ходил в туристические походы с одноклассниками.
16 сентября мама, Илья и я стояли на Финском железнодорожном вокзале, где ждали товарного поезда, на котором мы с братом должны были доехать до ладожского порта Осиновец. Было около 13 часов дня. Мы попрощались с мамой и отправились в путь. Около 17 часов доехали до места назначения. Здесь вместе с простым населением на баржу №725 стали погружать и курсантов военно-морских училищ. Тогда я им страшно завидовал. Мальчишки, примерно моего возраста, а уже военные! Я покрепче взял брата за руку, подтянул рюкзак на плече и пошел вслед за остальными на баржу.
725. Этот злополучный номер я запомнил на всю жизнь. Баржа оказалась переполненной. Как выяснилось позже, ее планировали для перевозки особого отделения курсантов. На простых людей просто не обращали внимания. Более чем на треть она была заполнена людьми из различных учреждений, но большая часть – эвакуированными из Ленинграда. По разным данным, на баржу погрузилось от 1200 до 1500 человек, которым предстояло пересечь озеро с запада на восток до порта Новая Ладога. Среди груза были также автомашины.
Легкие порывы ветра, небольшая волна и относительно ясная погода не вызывали ни у кого никаких особых опасений. Но это только у обычных пассажиров. На душе капитана буксира «Орел» Ивана Дмитриевича Ерофеева, очень опытного в этих делах человека, было неспокойно. Он ходил по Ладоге не один год и хорошо знал коварство осенней погоды в этих местах. Свои опасения по поводу буксировки баржи в условиях приближающегося шторма он высказал начальнику порта. Я невольно подслушал их разговор, когда еще стоял на суше, и понял, что не все так спокойно, но не придал их словам особого значения. Как выяснилось позже – зря! И начальство баржи тоже не придало словам капитана значение, оставив приказ об отправке без изменения.
Ладога отличается от малых морей только пресной водой. К примеру, средние глубины в Ладожском озере в 3,6 раза больше, чем в Азовском море, а максимальные – … в 16 раз! При скорости ветра 18 метров в секунду высота волн здесь достигает 6 метров. Итак, в ночь на 17 сентября 1941 года баржа вышла в свой последний рейс. В трюме, где нас разместили, освещения не было. Лишь изредка вспыхивали спички, когда кто-то искал себе место для ночлега. Илья все не мог привыкнуть к качке, и его постоянно тошнило. Тогда я, порывшись в рюкзаке, на ощупь, достал холщовый мешочек, куда мама заботливо сложила нам сухари ржаного хлеба в дорогу. Сухари я вытряхнул в рюкзак, а мешочек отдал брату. Но, наконец, все устроились и начали засыпать.
Неожиданно корпус баржи сильно заскрипел. В темноте трюма послышались обеспокоенные голоса, и воздухе повисло ощущение большой беды. Как бы в подтверждение тому, послышался шум льющейся воды. Не знаю, сколько было тогда время, часов у меня не было, но, думаю, около двух часов ночи. При свете спичек обнаружили трещину в обшивке борта. Попытки заткнуть течь вещами успеха не имели – не было ни специального материала, ни инструментов.
Старая баржа не способна была долгое время выдерживать удары огромных волн. Через некоторое время в средней части корпуса раздался страшный скрежет, обшивка лопнула, и через большую трещину вода стала быстро наполнять трюм. Поплыли чемоданы, ящики… Свой рюкзак я не снял, а то бы уплыли и мои припасы. В темноте людей охватила паника, послышались крики ужаса, усилился общий шум. Казалось, что спасение может быть лишь на палубе, и все стали продвигаться к выходным люкам. Я тоже, поправив рюкзак и крепко схватив все еще сонного братишку, направился за всеми. Так мы с Ильей очутились рядом с центральным люком входа. «Повезло» – подумал я. Но не тут-то было! Люк оказался заперт снаружи, с палубы, на запор. На все наши требования открыть его, сверху отвечали отказом, мол, выходить запрещено из-за маскировки.
Но тут, раздобыв где-то топор, какие-то люди стали рубить люк снизу. Я, было, кинулся помогать, но остановился, вспомнив о дремавшем на моем плече Илюше. Ему в этот момент хотелось только одного – крепко спать! Он прижался ко мне щекой, я крепко держал его за руку. Когда проход оказался свободен, я хотел рвануть вперед вместе с остальными, оказавшимися рядом с отверстием, но дорогу нам преградил какой-то лейтенант, размахивающий наганом и велевший никому не выходить. Тогда, взяв брата на руки и подтянув рюкзак, я кинулся к кормовому люку, через который, я заметил, уже кто-то начал выбираться наверх. Скоро и тут скопился народ. Я устал держать Илью, но терпел, потому что он наконец-то заснул. Здесь мы оказались где-то в середине толпы, зажатые другими пассажирами с разных сторон.
Люди двигались медленно. Объятые страхом, они напирали на идущих впереди, образовалась давка. Каждый старался проскочить люк как можно быстрее. Не зная о том, что рядом время от времени проносится тяжелый огромный румпель (рычаг верхней оси рули), кое-кто попадал под его роковой удар, и человек либо валился обратно на сходни, либо его сметало за борт, откуда уже не было возврата. В конце концов, открыли и центральный люк, и выход из трюма стал более организованным. В первую очередь наверх повели женщин и детей. Увидев у меня на руках спящего брата – пропустили без очереди. Ладога бушевала. На палубе люди как-то успокоились, паника прекратилась. Держались группами, разговаривали на отвлеченные темы и даже шутили. Но все еще было впереди!
Баржа тем временем погружалась все ниже и ниже. Необходимо было как-то поддержать плавучесть судна. Группа курсантов во главе с морскими офицерами с помощью ведер и ручной помпы пытались откачивать воду из трюма. Качали помпу очень быстро. На место уставших или смытых за борт людей тут же приходили другие. Илья проснулся, и мы с ним тоже решили предложить свою помощь. Для этого пришлось снова спустится в трюм. Встав друг за другом, мы вычерпывали воду из трюма найденными ведрами. Некоторые курсанты пытались черпать бескозырками, но с каждой волной через люки и щели воды наливалось в трюм больше, чем откачивали. Когда это стало очевидным, люди перестали бесполезно тратить силы.
Мы вернулись на палубу. Тут я обратил внимание на то, как начали сбрасывать в воду автомашины, с таким трудом погруженные на баржу, чтобы облегчить ее. И на некоторое время показалось, что баржа немного всплыла и стала легче всходить на волну. Это воодушевило людей: за борт полетели вещи – узелки, котомки, чемоданы. Свой рюкзак я не рискнул бросить. Во-первых, с ним было связано много воспоминаний, а во-вторых, он был не особо тяжелым. Но, передышка была временной. Неумолимая стихия продолжала наступать. Перекатывающиеся через палубу волны смывали за борт одного человека за другим. Я снова надел рюкзак, крепко сжал ладонь брата и стал искать более безопасное место. Размышляя об этом после пережитого, я пришел к выводу, что именно забота о брате и придавала мне силы бороться и не сдаваться. Был бы я один, наверное, не смог бы всего этого пережить.
Оказавшись за бортом, практически все люди были обречены на гибель: в ту ночь температура воды приблизительно колебалась от +10 до +12 градусов, а температура воздуха – от +4 до +10. В таких условиях даже опытному пловцу трудно рассчитывать на удачу. Некоторые мужчины и женщины, увидев, как быстро уходят на дно те, кто не успел избавится от тяжелой одежды и обуви, раздевались. Другие, считая безнадежным оставаться на барже, прыгали в воду, прихватив деревянный брус. Я же не рискнул раздеться или раздеть брата – все-таки было довольно холодно. Приняв решение, как можно дольше оставаться на барже, мы с Ильей нашли какое-то убежище на палубе, где можно было спрятаться от гигантски волн, и укрылись в нем.
Пока я пробирался к убежищу, невольно вслушивался в чужую речь. Какая-то старушка причитала, что умирать не хочется. Молодая мать громко, истерично умоляла окружающих спасти ее ребенка. Их успокаивали офицеры: мол, помощь уже в пути и всех спасут. И действительно, вскоре на горизонте показалась канонерская лодка, шедшая в сторону баржи. Ее появление было встречено с воодушевлением. Мы с братом тоже выскочили из убежища и как все стали громко кричать и размахивать руками, подзывая канонерку к себе. Один из офицеров забрался на крышу рубки и стал размахивать белой простыней, подавая сигналы судну. Но все оказалось напрасным – волны, пасмурное предрассветное небо делали полузатопленную баржу практически незаметной. На барже даже пробовали стрелять из винтовок, но их звук заглушал шум разбушевавшейся стихии. Лодка прошла мимо, не заметив нас. Первоначальная радость терпящих кораблекрушение сменилась ужасом, и это в еще большей степени повлияло на дальнейшие трагические события.
Многие, хорошо уверенные в своих силах, стали прыгать в ледяную воду, пытались вплавь достичь берега. Но как выяснилось позже, никто не смог этого сделать. Людей накрывало волной, затягивало под баржу, другие погибали от переохлаждения. Вскоре баржа осела настолько, что ее палуба оказалась почти на уровне воды. Буксировка «Орла» стала невозможна. Был отдан буксирный трос, и буксир стал маневрировать вокруг баржи, неустанно передавая сигналы SOS. Но на них, как ни странно, среагировали вперед вражеские самолеты – сначала разведчики, а затем штурмовики. За морскими волнами следовали ударные волны от разрывов бомб.
Схватив брата, я помчался к «нашему убежищу». Заливающая со всех сторон вода дополнялась ливнем пулеметного заградительного огня. Казалось, что и озеро, и небо ополчились против пассажиров 725-й баржи. Мы слышали, как по самолетам стали палить из винтовок, но оружия было мало, и рассчитывать на его эффективность не приходилось. И еще долго неприятельская авиация неоднократно обстреливала район бедствия.
Необходимо было оглядеться – где буксир? Не идут ли на помощь другие суда? Для этого я решил забраться на крышу рубки (в школе я был одним из лучших гимнастов). На случай, если меня смоет за борт, разделся, отдал братишке рюкзак и одежду. Оставшись в майке и трусах, полез на крышу. Увиденная картина меня озадачила. Обстановка оказалась мрачнее, чем выглядела снизу. Впереди виднелся темный силуэт «Орла». Черные тучи оказались настолько низко, что, казалось, невысокая мачта баржи рвет их в клочья. Просто гигантские волны шли длинными валами одна за другой (прямо как в учебнике географии про цунами). Было видно, как тупой нос баржи медленно карабкался на гребень вала, разбивал его верх, а затем круто падал вниз. Но внезапно накатившая волна тараном ударила по стенам рубки. Оставшиеся на палубе люди издали крики и возгласы ужаса. Вспомнив про Илью, я мигом соскочил с крыши и побежал к нему, крепко схватив его за руку и прижав к себе. А водяной вал сорвал рубку с палубы и понес ее за борт. Мы были глубоко поражены, что рубка плывет по волнам сама, а внутри находились женщины и дети. В душе что-то оборвалось: ведь там могли быть и мы с братом…
Я начал замерзать и взял у Ильи одежду. Что делать дальше? За одну ночь я повзрослел, оказавшись на самой настоящей войне, о которой грезил лишь в мечтах. Но такого, что рубка поплывет сама, я и представить себе не мог. Почти без крена она очень быстро, менее чем за минуту, опустилась на дно. Крики на палубе уже не смолкали, снова началась паника. Но из рубки не доносилось ни звука: видимо, женщины и дети, находившиеся в ней, так и не поняли, что происходит. Женщины, наверное, лишь успели прижать к себе детей и помолиться. Их личная борьба за жизнь была проиграна… А нам с Ильей пришлось побороться. Решив ни на минуту не оставлять брата, я метался по палубе из стороны в сторону, спасаясь от волн и таща за собой брата. Это были самые страшные мгновения моей жизни.
Спасательные действия «Орел» начал с рассветом. Но как же трудно их было осуществить в условиях сильнейшего – десятибалльного! – шторма. Большинство людей было уже обессилено и парализовано холодом. Мы заметили, как одному офицеру удалось добраться до буксира, но сил схватить спасательный круг не осталось. Его затянуло под корму. Через некоторое время к «Орлу» подплыла женщина. На ней было лишь нижнее белье (а шел уже четвертый час после начала катастрофы), ей кинули веревку, и она самостоятельно забралась на борт. Тогда я принял решение.
Буксир плавал поблизости. Я кинул рюкзак за борт и снова разделся. Илья забрался мне на спину. Как следует приготовившись, я прыгнул в ледяную воду и начал усиленно грести к «Орлу». Оказавшись в воде, я думал лишь об одном, как бы братишка не отцепился и не ушел ко дну. Но все обошлось. Благополучно доплыв до буксира, я схватился за кинутый нам с борта круг. Переведя дыхание, стал забираться по тросу на борт. С братом за спиной это оказалось не просто. Я попросил его отцепиться на время и держаться за спасательный круг. Но со страху он еще крепче вцепился в меня. Тут нам помогли матросы, и мы оказались на борту.
Уже с борта «Орла» мы увидели самый страшный эпизод этой трагедии. Ударами гигантских волн средняя часть палубы баржи с еще находившимися на ней сотнями людей была оторвана от корпуса и смыта за борт. Именно в этом страшном месиве человеческой плоти, дерева и воды погибла большая часть пассажиров баржи, нашедших в этот день свою могилу на дне Ладоги. Стихия за доли секунды раскромсала ее на мелкие части. Тут с нами началась истерика. Ведь задержись мы на барже еще несколько минут, спастись уже не смогли бы. Я что-то закричал, кажется, даже матом. Илья разревелся. Нас увели в каюту, напоили чаем, и я уснул.
Проснулся уже на берегу в военном госпитале. Рядом сидел Илья и улыбался. Я улыбнулся в ответ. Да, «хорошее» приключение нам пришлось пережить – едва не попрощались с жизнью. Собравшись писать письмо домой о том, как добрались до места, мы с братом договорились никогда не рассказывать родителям правды, чтобы они не волновались. И свое обещание сдержали. Об этой ужасной ночи родители так и не узнали.
2011 год.
"Знамя Победы".
публицистическая заметка.
Многие события последних месяцев войны до сих пор обходят молчанием. Архивы так и не рассекречены до конца, а самые горькие, «неудобные» и болезненные вопросы по сей день остаются без ответов. Одним из так называемых «неудобных» и болезненных вопросов до сегодняшнего времени остается вопрос: кто, действительно, поднял Знамя Победы? Кто в реалии «забыт» историей? Зачем и почему это было сделано? В этом я и попробую разобраться в предлагаемом мною материале.
30 апреля 1945 года корпуса 2-й гвардейской танковой армии вышли к парку Тиргартен. Для содействия танкистам генерала Богданова в Берлин была прислана 1-я польская пехотная дивизия. Продвижение 5-й ударной армии практически застопорилось. Части генерала Катукова штурмовали Зоологический сад, части генерала Кузнецова – рейхстаг, обозначенный на военных картах как «объект №105».
Бои за «объект №105» войска 3-й ударной армии завязали еще накануне. Никакой роли в жизни Третьего рейха это учреждение времен Веймарской республики не играло, но именно его выбрали на роль «исторического олицетворения германского государства» и «оплота фашизма». А с другой стороны, что-то надо было выбрать. Серое, ничем не примечательное, кроме стеклянного купола, заслоняемое громадами Королевской оперы и «дома Гиммлера», двухэтажное здание рейхстага советские командиры поначалу не смогли даже опознать сквозь дым и мглу, а только прикидывая по плану города.
Гарнизон рейхстага насчитывал около тысячи солдат и офицеров. Вокруг здания были отрыты глубокие рвы, устроены различные заграждения, оборудованы артиллерийские и пулеметные огневые точки. Перед фасадом на прямую наводку были выставлены 88-мм зенитные орудия, справа, у Бранденбургских ворот, – вкопаны танки.
Задача по овладению рейхстагом была возложена на 79-й стрелковый корпус генерала С.Н. Переверткина. В первом эшелоне наступали 150-я дивизия генерала В.М. Шатилова и 171-я дивизия полковника А,И. Негоды. Их поддерживали 23-я гвардейская танковая бригада, 351-й полк тяжелых САУ, 85-й танковый полк и 1203-й самоходный-артиллерийский полк – 63 танка и САУ. Военный совет армии заблаговременно выдал каждой дивизии Знамя Победы для водружения на куполе здания, всего, стало быть, девять знамен. Так, 150-й стрелковой дивизии досталось знамя №5. Комдив генерал В.М. Шатилов вручил его своему фавориту, командиру 456-го стрелкового полка подполковнику Ф.М. Зинченко, а тот, в свою очередь, – «лучшим разведчикам» 1-го батальона – сержантам М.А. Егорову и М.В. Кантарии. Кроме того, в каждом батальоне, роте, взводе, отделении для обозначения занятой территории имелись собственные красные флажки разной величины и формы.
В течение 29 апреля 756-й стрелковый полк 150-й стрелковой дивизии и 380-й стрелковый полк 171-й стрелковой дивизии, захватив мост Мольтке, переправились на южный берег Шпрее и очистили от противника прилегающие здания. В 15 часов части двух дивизий атаковали рейхстаг, но вскоре залегли под перекрестным огнем. Вечером генерал Шатилов ввел в бой 674-й стрелковый полк подполковника А.Д. Плеходанова, который, в отличие от прочих героев этой истории, мемуаров не оставил. Но его записи сохранились у близких:
«29 апреля, примерно в 22 часа 30 минут, меня вызвал на свой НП, который находился в туннеле под железной дорогой, В. Шатилов и сказал:
• Товарищ Плеходанов! У Зинченко большие потери. Говорит, что в батальоне осталось 75 человек. Так что рейхстаг придется штурмовать тебе. Полк Зинченко был действительно сильно потрепан. Оставшиеся в строю солдаты (их было немного) расположились в комнатах большого здания на берегу Шпрее. В одной из комнат я нашел Зинченко. Поздоровавшись, я спросил:
• Будем штурмовать рейхстаг?
Он крепко выругался и ответил:
• Чем я буду штурмовать? Остатками батальона Неустроева? Нет, дружище, валяй сам.
Я попрощался и ушел. Зная, что полк Зинченко в атаке участвовать не будет, а знамя Военного совета находится там, я сказал лейтенанту Сорокину и парторгу подразделения Виктору Праворотову, чтобы они подготовили Красное знамя для водружения на рейхстаге. Разведчики обрадовались, заволновались и вскоре раздобыли где-то перину и привели двух пленных генералов. Здесь же, на наблюдательном пункте, перину выпотрошили. Кто-то принес нечто похожее на древко. Подстругали его кинжалами. Знамя из перины получилось грубоватым, но зато прочным и большим. Вручив Красное Знамя разведчикам, я поставил задачу – водрузить его на крыше, у скульптурной группы».
Потери, действительно, были велики. В ротах насчитывалось по 30-40 человек. Последним пополнением дивизий 79-го стрелкового корпуса стали бывшие узники Моабитской тюрьмы. В полдень, после сильной артподготовки, батальоны бросились на штурм. Через полтора часа в здание с разных сторон, преодолев ров, под прикрытием артиллерийского огня и дымовых шашек, ворвались группы из первых батальонов 380-го, 674-го, 756-го полков. Генерал Шатилов докладывал: «Группа смельчаков 756-го СП водрузила знамя на первом этаже в юго-западной части рейхстага в 13.45 30.04.45 г., 674-го СП – в 14.25 30.04.45 г., в северной части западного фасада здания…». Позже в своих мемуарах генерал напишет: «Первыми были в полном составе рота Петра Греченкова, группа разведчиков лейтенанта Сорокина и рота Ильи Сьянова». Имена смельчаков из взвода Сорокина известны: старшие сержанты Лысенко, Орешко, Праворотов, красноармейцы Булатов, Брюховецкий, Почковский.
Виктор Праворотов вспоминал: «Цель достигнута. Где поставить знамя? Решили укрепить у скульптурной группы. Подсаживаем Гришу Булатова, и наш самый молодой разведчик привязывает флаг к шее огромного коня. Посмотрели на часы: стрелки показывали 14 часов 35 минут».
Из записок подполковника А.Д. Плеходанова: «Отважная горстка солдат из роты лейтенанта Греченкова и разведчиков взвода Сорокина достигла главного входа в рейхстаг и скрылась в нем. Через некоторое время я поднял бинокль и увидел Красное Знамя, а возле него движущиеся две крохотные фигурки. Это было в 14 часов 25 минут. Как я узнал позже, движущимися фигурками были сержант Праворотов и рядовой Булатов. В это время мне позвонил командир дивизии В.Шатилов и спросил, какова обстановка. Я доложил.
– Есть связь с теми, кто в рейхстаге? – спросил командир дивизии.
– Нет, – ответил я. – Но беспокоится за них не стоит. Они уже проникли на крыши и водрузили там Красное Знамя Победы.
– Какое знамя? – удивился генерал. – Ведь оно в штабе Зинченко.
– Знамя моих разведчиков. Самодельное. Они его подготовили перед штурмом.
Около 16 часов, когда огонь несколько стих, ко мне на НП пришел полковник Зинченко с телефонным аппаратом через плечо. Поздравил меня с победой. Позвонил В. Шатилов, запросил обстановку и дал команду приготовиться к третьей атаке. В заключение разговора генерал попросил передать трубку Зинченко.
Закончив разговор с В. Шатиловым, Зинченко недовольно сказал:
• Старик беспокоится о Знамени Военного совета. Говорит, что комкор Переверткин не дает покоя, все время спрашивает о Знамени Военного совета армии. Приказывает водрузить его.