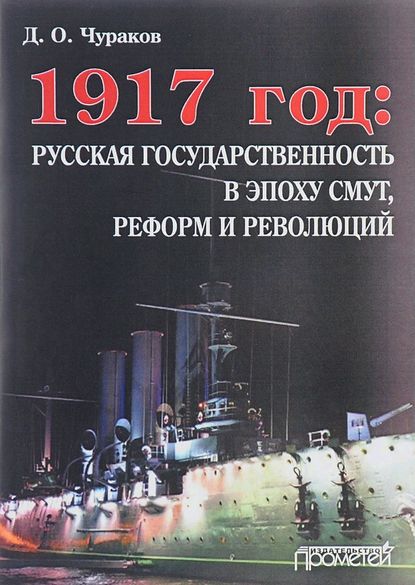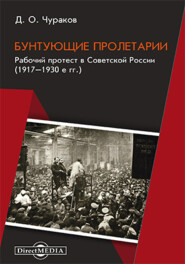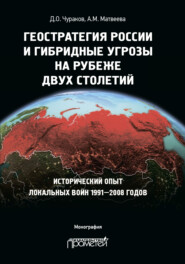По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
1917 год: русская государственность в эпоху смут, реформ и революций
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это мнение вызывает много вопросов. К примеру, мы уже видели, что понятие «оппозиция» многопланово. Что же касается провинции, то и здесь не всё так однозначно. В частности, некоторые исследователи готовы говорить применительно к положению дел там о троевластии и даже о многовластии. По наблюдению Г. А. Герасименко, тогда на власть претендовали все классы, партии и учреждения. Соотношение сил между ними складывалось самое различное. Поэтому механизмы власти на местах получали самые причудливые очертания[80 - См. об этом: Герасименко Г. А. Состояние власти в России после свержения самодержавия // Власть и общественные организации России в первой трети XX столетия. М., 1994. С. 115.]. Этот вывод вряд ли возможно оспорить. А если так, то уместно ли при этом отрицать разделение власти там как таковое?
Тему развития центральных учреждений управления, но уже в советский период продолжает Т. П. Коржихина. Первые главы её труда посвящены зарождению Советского государства[81 - Коржихина Т П. Советское государство и его учреждения. М., 1995]. Среди более частных вопросов этой широкой темы выходили работы о создании и деятельности первого Советского правительства[82 - Первое Советское правительство. Октябрь 1917 – июль 1918. М., 1991.], его социальной природе и о том, удалось ли большевикам выполнить свои обещания и построить рабочее государство без бюрократии и бюрократизма[83 - Морозов Б. М. Формирование органов центрального управления Советской России в 1917–1918 гг. М., 1995.]. Вышли, к примеру, исследования по истории формирования центрального аппарата Красной Армии[84 - Реввоенсовет Республики (6 сентября 1918 г. – 28 августа 1923 г.). М., 1991.] и Советской внешней политики[85 - Ксенофонтов И. Н. Мир, которого хотели и который ненавидели. М., 1991.]. Во многих современных работах становление советского режима рассматривается через призму судеб Учредительного собрания[86 - См., напр.: Революция и Учредительное собрание. Беседа корреспондента журнала «Диалог» В. Павленко с доктором исторических наук О. Знаменским и кандидатом исторических наук В. Миллером // Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа. М., 1991.]. Как правило, исследователи ставят вопрос о том, существовала ли альтернатива Советской власти[87 - О проблеме альтернативности применительно к судьбе Учредительного собрания и шире – всей русской революции см.: Волобуев П. 1917 год: была ли альтернатива? // Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа. М., 1991; Рашитов Ф. А. Альтернатива Октября: мирный или насильственный переворот. Саратов, 1990.]. Тем не менее выходят и прикладные исследования, посвящённые конкретным вопросам о подготовке, составе, ходе и результатах Учредительного собрания и созванного в противовес ему III съезда Советов[88 - См., напр.: Исхаков С. М. Кто есть кто среди российских политиков в первой четверти XX века (на примере кандидатов во Всероссийское Учредительное Собрание) // Власть и общество в России в первой трети XX века. М., 1994; Протасов Л. Г. «Кто был кто» во Всероссийском Учредительном собрании // Крайности истории и крайности историков. М., 1997; Смирнов H. Н. Третий Всероссийский съезд Советов. История созыва, состав, работа. М., 1988 и др. И, наконец, нельзя не сказать о серьёзном обобщающем труде, позволяющим глубоко разобраться в ряде парадоксов, тайн и неопределенностей, существующих вокруг тех событий, см.: Протасов Л. Г. Всероссийское учредительное собрание. История рождения и гибели. М., 1997.].
О том, как далеко продвинулись современные историки в изучении государственного строительства после Октября, можно наглядно судить на примере новых подходов к продовольственной политике большевиков[89 - О положении дел с продовольствием в период правления Временного правительства из современных исследований см.: Лейберова И. П., Рудаченко С. Д. Революция и хлеб. М., 1990.]. Среди историков, наиболее интересно работающих в этом направлении, можно назвать С. А. Павлюченкова[90 - См.: Павлюченков С. А. Крестьянский Брест или предыстория большевистского НЭПа. М., 1996.]. Не со всеми его выводами можно согласиться, но во многих случаях его оценки заслуживают внимания. В частности, представляется бесспорным, что именно продовольственная политика может считаться стержнем военного коммунизма. Голод диктовал правила нового политического поведения, и побеждал тот, кто лучше приспосабливался к ним. Пожалуй, именно в работах Павлюченкова столь полно поднимается принципиальный вопрос о существовавшей среди большевиков так называемой «.продовольственной оппозиции». Оппозиция эта имела для складывания советского режима не меньшее, а может, и большее значение любой другой внутрипартийной оппозиции в те месяцы.
Проблему «хлеб и революция» Павлюченков пробует рассмотреть со всех применимых к ней ракурсов. Ему, в частности, принадлежит интересное исследование на тему влияния алкоголя на различные аспекты революционной эпохи. Связь между голодом, продразвёрсткой и самогоноварением ясна не до конца. Но что эта связь налицо – факт бесспорный. Автор не торопится с окончательными оценками. Но ему удаётся проследить связь зелёного змия с зелёным движением, погромами, жестокостью гражданской войны. В ряде случаев алкоголь, наоборот, смягчал противоборство сторон, но никак ни их нравы – чреда винных погромов проходит через всё революционное лихолетье[91 - См. Павлюченков С. А. Веселие Руси: революция и самогон // Революция и человек. М., 1997. С. 124–142.]. Самогонная революция начинает стихать лишь к середине 20-х. Но и здесь государству пришлось пойти на очередной Брест…
В последние время также стали появляться работы, в которых анализируется эволюция власти белых правительств[92 - См., напр.: Голдин В. И. Верховное управление Северной области в 1918 году: особенности формирования и функционирования // Власть и общество в России в первой трети XX века. М, 1994; Федюк В. П. Белые. Антибольшевистское движение на юге России. 1917–1918 гг. М.,1996.]. Впрочем, эта тема ещё нуждается в дальнейшей разработке.
Помимо этого, тот интерес к самоуправлению в России, о котором говорилось выше, в полной мере проявился применительно к событиям революционного времени. Это и понятно. Пожалуй, ни в одной другой революции ни до, ни после, роль провинции не была столь весомой. И это при той, традиционно доминирующей роли столицы, столь типичной для всей русской истории! Роль периферии, будь то территориальная или социальная, выразилась в создании органов общественной самоорганизации. На какое-то время самоуправление стало стержнем всех политических перемен и на местах, и даже в центре.
Наибольший интерес в последние годы историки проявили к так называемым Комитетам общественной безопасности. Имелись и другие названия этих стихийно возникавших органов: Общественные исполнительные комитеты, комитеты общественных организаций. Именно им, а не комиссарам Временного правительства в первое время перешла рухнувшая власть[93 - В первую очередь здесь следует назвать: Герасименко Г. А. Первый акт народовластия в России: общественные исполнительные комитеты (1917 г.). М., 1992; Герасименко Г. А. Народ и власть (1917). М., 1995. Для сравнения см. также: Лукьянова Л. А. Комитеты общественной безопасности в советской историографии // Классовая борьба на Урале в период империализма и утверждения диктатуры пролетариата. Пермь, 1989.]. Наряду с этим большее, чем прежде, внимание уделяется реформированным земствам и городскому самоуправлению[94 - См., напр.: Расторгуев В. В. Земства Сибири в структуре власти колчаковского правительства // Земства и Советы: исторический опыт и современные проблемы местного самоуправления. Иваново, 1995; Звягин С. П. Сибирское земство и военщина при А. В. Колчаке // Земства и Советы: исторический опыт и современные проблемы местного самоуправления. Иваново, 1995; Ржанухин А. В. Земство, социалисты и начало гражданской войны в губерниях русского Севера // Земства и Советы: исторический опыт и современные проблемы местного самоуправления. Иваново, 1995.]. Особняком стоит изучение органов нового режима в армии[95 - См. Миллер В. И. Солдатские организации 1917 г. К вопросу о содержании понятия. Общественные организации в политической системе России 1917–1918 гг.: материалы конференции. М., 1991.]. Большое, а может и большее, чем прежде, внимание уделяют историки Советам. Только сегодня Советы в большей мере изучаются их взаимосвязи с другими общественными организациями. Это, наверно, и правильно. Ведь только при таком комплексном подходе становится понятно, почему именно Советы, а не другие формы самоуправления, рождённые революцией, стали прообразом новой российской государственности[96 - См., напр.: Обухов Л. А. Советы и Комитеты общественной безопасности на Урале //1917 год в исторических судьбах России. Научная конференция «Проблемы Октябрьской революции». Ноябрь 1992 года. М., 1992; Жукова Л. А. Земства и Советы: цивилизационные аспекты // Земства и Советы: исторический опыт и современные проблемы местного самоуправления. Иваново, 1995; Ерин А. В., Козлов Ю. В. 1917 год: выбор путей политического развития // Земства и Советы: исторический опыт и современные проблемы местного самоуправления. Иваново, 1995.].
Большой фактический материал позволил поставить ряд принципиальных вопросов о роли общественной самоорганизации в революции. За неимением возможности подробно остановиться на всех из них, коротко коснёмся двух, на наш взгляд, наиболее важных.
Прежде всего, вопрос о самоуправлении так или иначе выводит на проблему о роли сознательного и стихийного в революции. Как, к примеру, оценить факт повсеместного и быстрого возникновение близких по типу органов самоуправления? Историки демонстрируют к этому совершенно разные подходы. К примеру, В. Е. Остроухое, анализируя февраль в Туле, пишет, что коротенькой заметки в местной газете «Тульская молва» хвалило, чтобы прежний царский аппарат управления рухнул, а на смену ему пришла революционная власть[97 - Остроухое В. Е. Местный государственный аппарат в революции 1917 г. (на материалах тульской губернии) // Научные труды МПГУ им В. И. Ленина. Сер. «Социально-исторические науки». М., 1997. С. 73.].
Казалось бы, такая трактовка событий явно говорит в пользу спонтанности революционных изменений в Туле. Но подобная «спонтанность» была в принципе возможна лишь в случае какой-то предшествующей организации. И действительно. Более пристальный взгляд показывает, что на практике о стихийности говорить сложно. Хотя, по словам свидетелей, переход власти в Туле совершился легко и красиво, но за этим стояла долгая и упорная деятельность местных кооперативных организаций. К слову сказать, этот факт выводит и ещё на грань проблемы о стихийности и организованности в русской революции. Речь у него вновь идёт об участии в ней масонов. Если их роль в организации центральной революционной власти очевидна, то можно ли говорить о том же применительно провинции? Проблему соотношения стихийности действий масс, организаторской деятельности кооперации и масонском следе в организации провинциального самоуправления периода революции поднимает в одном из своих исследований А. В. Лубков[98 - См. Лубков А. В. Война, революция и кооперация // Власть и общественные организации России в первой трети XX столетия. М., 1994. С. 106–109.]. Определённый интерес в этом ключе имеет также наблюдение A. В. Ржанухина, обратившего внимание на засилье политизированной интеллигенции в органах местного самоуправления крестьян. Пользуясь преимуществом в организации, образованные классы стремились занять важнейшие позиции во всех органах самоуправления. Но удалось ли им осуществить это? Пока однозначный ответ здесь дать сложно.
Ещё один довольно неожиданный аспект проблемы сознательного и стихийного фактора в революции поднят B. В. Канищевым. Предметом его исследований стали бунты в городах России. Были ли события 1917 года бунтом или революцией?[99 - Из его работ особое внимания заслуживают два фундаментальных труда: Канищев В. В. Русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Погромное движение в городах России в 1917–1918 гг. Тамбов, 1995; Канищев В. В., Мещеряков Ю. В. Анатомия одного мятежа. Тамбовское восстание 1917–1918 г. Тамбов, 1995.] Этот вопрос для судеб российского государства сам по себе имеет огромное значение. Но работы Канищева позволяют поднять ещё один вопрос. Автор, в частности, рассматривает бунтарское начало в революции как элемент стихийности. Есть в его работах и упоминание о национальной специфике российской революции. Но если разговор заходит о национальной специфике российского революционного развития, то невольно напрашивается вопрос: а можно в рамках этой специфики говорить о бунте как о синониме стихийности? Не есть ли бунт, а если шире – бунтарство – особой для России формой самоорганизации масс. Пусть и примитивной формы, сочетающей сознательные, полусознательные и стихийные элементы? И ещё, можно ли отождествлять бунты и погромы, особенно в период революций? Разумеется, интеллигенция отождествляла и то и другое. Но мы уже говорили о том, как опасно смотреть на социальную мобильность широких народных слоёв глазами образованной верхушки.
И ещё один вопрос заслуживает самого пристального внимания при взгляде на роль самоуправления в революции. Впрочем, он также может иметь некоторое отношение к социальной физиономии русского бунта – столь беспощадного для верхов и подчас столь желанного для низов. Так, например, А. С. Ахиезер пишет о революции 1917 года как о безудержном бунте локализма. Торжество локализма приобретало разные формы. Россия превращалась в систему самостоятельных локальных миров. Возникли самостоятельные республики в рамках губерний и даже уездов. Создавались региональные объединения Советов, по сути, противостоящие центральной власти. Местные органы по некомпетентности или из-за претенциозности вторгались в сферу общегосударственной политики. Наступал момент, когда стало возможным жить интересами своей группы, деревни, цеха, улицы, возводя свои частные требования в ранг всеобщих. Балом повсюду правил древний вечевой идеал. Страна распалась на атомы, которые могли до бесконечности вести войну друг с другом. Общество не было спаяно даже общим торговым интересом, распалось на множество натуральных хозяйств, интересы которых не идут дальше собственного огорода. Как в таких условиях, задаётся вопросом Ахиезер, могло возникнуть и существовать государство?[100 - Ахиезер А. С. Россия: Критика исторического опыта: в 3 т. М., 1991. С. 9, 50–51.] С другой стороны, к этой же проблеме подходит В. Я. Филимонов. Он показывает, что подчас мы имеем дело ни с каким не с бунтом локализма, а с результатом конфликтов, насаждавшихся центральной властью и на места. С одной стороны, это были конфликты между исполнительной и законодательной ветвями новой власти. С другой – свою роль в идущем на места расколе играл растущий раскол между различными течениями социалистов. Свою роль в этом сыграл и международный фактор, в частности отношение к Брестскому миру среди разных групп местной элиты[101 - Филимонов В. Я. К истории государственного строительства в первый год советской власти // Власть и общество в России в первой трети XX века. М., 1994. С. 26–28.].
Говоря о роли периферии и самоуправления в революции 1917 года нельзя не сказать о разворачивавшихся тогда национальных движениях. Тема эта заслуживает особого разговора. Но не сказать о ней хотя бы в нескольких словах нельзя. В последние годы историки подошли к пониманию российской революции как комплекса совпавших по времени ряда национальных революций: мусульманской, еврейской, польской, финской, тюркской, кавказской (условно говоря) и, конечно же, русской. Вес национального фактора в такой многонациональной стране, как Россия, традиционно велик. Поэтому рост максимализма в национальных окраинах не мог не сказаться на судьбах всего российского государства в целом. Он сказался и в обострении отношений центр – национальные окраины, и в необычном приливе в центр массы выходцев из нерусских народов. Как правило, эти выходцы стояли на крайних позициях, поскольку в местах своего прежнего проживания, как правило, относились к маргинальным силам. Отсюда вытекает целый комплекс вопросов, к решению которых историки только приступают. Повлияла ли война и вызванные ею процессы миграции и маргинализации на радикализацию революции? Вливались ли национальные революции в общероссийскую или противостояли ей? Или ими двигали обособленные интересы? Носили ли «революции национальностей» сепаратистский характер или были направлены на этнокультурную перестройку империи? Предали окраины центр или они, наоборот, спасались бегством от «разрушающегося», в их понимании центра, чтобы сохранить хотя бы осколки империи? В этой связи возрастает интерес к традиционной политике союза «самодержца» с народами, которая позже будет в некоторых чертах возрождена Сталиным. Наконец, какую роль в «революции национальностей» играла собственно русская революция? Вопросы можно было бы и продолжить…[102 - См. наработки их решения: Булдаков В. П. Революционный процесс и национальный фактор // Октябрьская революция в Средней Азии и Казахстане: теория, проблемы, перспективы изучения. Ташкент, 1991; Булдаков В. П. Историографические метаморфозы «Красного Октября» // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет / под ред. Г. А. Бордюгова. М., 1996; Миллер В. И. Городские средние слои Грузии в 1917 г. // Осторожно: история. М., 1997; Миллер В. И. Этнонациональные факторы революционного процесса // Кентавр. 1992. № 3–4; Национальные движения и национально-патриотические партии. Чебоксары, 1994; Люкшин Д. И. Этносоциальные отношения в «общинной революции» начала XX века // Феномен народофобии. XX век. Казань, 1994; Нам И. В. Культурно-национальная автономия в России: опыт Дальневосточной республики // Российская государственность: опыт и перспективы изучения. М., 1995; Исхаков С. М. Февральская революция и российские мусульмане // 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1997; Кульшарипов М. М. З. Валидов и образование Башкирской Автономной Советской республики (1917–1920 гг.). Уфа, 1992; и др.]
И, наконец, завершая разговор об эволюции механизмов управления и общественной организации революционной эпохи, коротко остановимся на роли политических партий. Пожалуй, именно этой проблематике была посвящена первая по-настоящему новаторская работа, с которой можно начинать отсчёт историографии новой волны. Не публицистических поделок, а именно серьёзной научной историографии. Речь идёт о монографии Л. М. Спирина о политических партиях в 1917 году.
Уже в ней были поставлены большинство вопросов, над которыми сегодня идёт работа историков. В ней, в частности, был актуализирован интерес к роли партий в событиях в российской глубинке, армии, отдельных, непролетарских слоях населения. Пусть ещё и осторожно, но Спириным поднята проблема взаимоотношения партий и народных масс[103 - Спирин Л. М. Россия. 1917 год: Из истории борьбы политических партий. М., 1987.]. В целом в этот период историки продолжили изучение вопроса о роли партий в формировании различных альтернатив политического развития[104 - См., напр.: Миллер В. И. Почему не меньшевики? // Дело. 1995. № 4; Миллер В. И. Почему не эсеры? // Дело. 1995. № 21 и др.], их участия в связке «власть— оппозиция»[105 - См., напр.: Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции. Ч. 1. Политические партии России. Совместное российско-белорусское исследования. Гомель, 1993.], динамика численности партий[106 - См., напр.: Миллер В. И. Осторожно: история. М., 1997. С. 102–115.], проблемы межпартийных блоков[107 - В этом смысле особенно следует выделить работу о складывании и крахе коалиции большевиков и левых эсеров, сыгравших важную роль во всех важнейших аспектах формирования постреволюционного государства в первые, самые трудные для него месяцы. См.: Фельштинский Ю. Крушение мировой революции. Брестский мир: Октябрь 1917 – ноябрь 1918. М., 1992.] и целый ряд других прикладных вопросов. Плодом совместного труда историков стал выход замечательного энциклопедического труда о политических деятелях революции[108 - Политические деятели России 1917: биографический словарь. М., 1993.]. И тем не менее приходится признать, что проблема роли партий в событиях 1917 года изучена ещё недостаточно.
Требуется, в частности, ответить на вопрос, служила ли деятельность политических партий в 1917 году укреплению слабых ростков гражданского общества в России. Или, наоборот, именно она стала основным детонатором того взрыва, который замедлил и направил этот процесс в совсем иное русло? Кроме того, являлась ли многопартийность того времени чем-то органически вписывающимся в ситуацию? Или для России форма квази-соборности в форме существования политических партий чужда? Не об этом ли свидетельствует деятельность либеральных и правосоциалистических в периоды кризисов на протяжении всей революционной поры?
Один только тот факт, что до сих пор не появилось сколь-нибудь серьёзных обобщений о роли в революции большевиков, говорит об очень многом. В том числе о страхе историков быть обвинёнными в предвзятости. Страх этот напрасен. Он провоцирует ситуацию, когда за дело «устранения белых пятен» берутся люди, далёкие от науки. Что из этого получается, видно на примере современной «Ленинианы»[109 - См., напр.: Вождь: (Ленин, которого мы не знали). Саратов, 1992; Ленин, о котором спорят сегодня. М., 1991; О Ленине – Правда. Л., 1991; Волкогонов Д. А. Ленин. Политический портрет: в 2 кн. М.,1994; критику волкогоновских подходов к истории см.: Дедков Н. И. «Как я документально установил» или «Смею утверждать». О книге Д. А. Волкогонова «Ленин» // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет / под ред. Г. А. Бордюгова. М., 1996.]. Впрочем, такая ситуация провоцируется искусственно. «Диктатура публицистики» – это не что иное, как современная форма идеологического контроля со стороны власти над историком[110 - См. об этом мнение венгерского специалиста по истории России в кн.: Краус Т. Советский термидор. Духовные предпосылки сталинского поворота. 1917–1928. Белград, 1997. С. 15–16.]. Насколько сильна власть этой новой формы, можно судить по некоторым материалам, появляющимся время от времени даже в очень престижных научных изданиях[111 - В качестве печального примера можно назвать: Обухов В. И. Изнанка сверхценностных установок: моральный облик большевиков в годы гражданской войны // Булдаков В. П. От войны к революции: рождение «человека с ружьём» // Революция и человек: быт, нравы, поведение, мораль. М., 1997. Автор этой работы ставит совершенно верную задачу преодолеть укоренившуюся идеализацию большевистского лагеря, избегая известных крайностей. Увы, для самого автора эта задача оказалась непосильной и избежать известных, даже очень известных крайностей ему не удалось. И выводы, и сам метод этой работы не идут ни на шаг дальне пресловутой статьи И. А. Ильина, проникнутой не научными размышлениями, а обидой оторванного от родины неудачника. См.: Ильин И. А. Наши задачи. Т. 2. Париж; Москва, 1992. С. 161–173.]. Вместе с тем изучение российского государства в эпоху смут, реформ и революций немыслимо без серьёзного, научного, не отягощённого жаждой исторической мести разговора. Ведь именно история большевизма стала квинтэссенцией тех перемен, которые в начале века на долгие годы определили лицо России, позволив ей закрепить за собой статус великой сверхдержавы со всеми положительными и оборотными сторонами этого статуса.
* * *
Так что, несмотря на то, что общие контуры новой концепции истории российской государственности рубежа веков уже успели сложиться, окончательное их заполнение конкретным материалом ещё впереди. Хотелось бы именно в этом видеть один из путей возрождения истории как науки и освобождения её от новых форм конъюнктуры.
Дорога в бездну
Очерк 3. Государственный строй Российской империи в годы правления Николая II
Незадолго до 300-летия Романовых в Берлине вышла объёмистая книга. По богатству оформления её можно было «перепутать» с другими юбилейными изданиями. Но содержание было иным. Автор книги, левый кадет В. П. Обнинский, доказывал, что правящий в те годы Николай II, даже если его трон не рухнет, станет последним российским самодержцем[112 - См.: Обнинский В. П. Последний самодержец. Очерк жизни и царствования Императора России Николая II. М., 1992.].
Парадокса в такой оценке не было. Став царём, Николай II застал фасад имперской власти неизменным. Во главе государства, как и прежде, стоял монарх. Им формировались и ему подчинялись высший административный и законосовещательный органы: Кабинет министров и Государственный совет. По сути, на правах рядовых ведомств действовали Святейший Синод (руководящий делами церкви) и Сенат (верховный орган судебной власти). Но по своей социальной природе это был уже не абсолютизм эпохи феодализма и не азиатская деспотия.
Развитие государственного уклада России в тот момент определялось переходом страны от традиционного общества к современному гражданскому обществу. В экономической и политической сферах в России складывалась особая комбинированная формация. С одной стороны, Россия оставалась империей специфического реликтового типа[113 - См.: Булдаков В. П. Имперство и российская революционность. Критические заметки // Отечественная история. 1997. № 1. С. 44.]. Эта специфика имперства в России не являлась пережитком. Но строилась она на «архаичном» восприятии государства как «большой семьи». С другой стороны, с XVIII века страна ускоренно сближалась с Европой. В экономике это выразилось в росте капиталистических отношений. В политике – в попытках государства рационализовать себя. Взаимоотношениям с традиционными для России локальными сообществами[114 - О значении локализма в истории России см., напр.: Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. М., 1991. Т. 1. С. 55–56; и др.] оно предпочитало иметь дело с отдельными гражданами. Реликтовым, таким образом, в большей мере оставался базис империи. Политическое увенчание её было уже в немалой степени переродившимся, инородным образованием.
Следствием начатых Петром I процессов стало отчуждение от народа правящей элиты. Очень удачно отразил это Обнинский: «Цари, некогда вершившие судьбы своего народа личной политикой, теряли мало-помалу всякое влияние на ход управления, и наше поколение застало эпоху полнейшего порабощения их всемогущим бюрократизмом»[115 - Обнинский В. П. Последний самодержец. Очерк жизни и царствования Императора России Николая II. М., 1992. С. 3.]. Начавшаяся в 1905 году революция подтолкнула власти к поиску приемлемых вариантов реформ в области системы государственной власти. Инициатором назревших реформ поначалу выступал министр внутренних дел А. Г. Булыгин. Его настойчивость привела к появлению 18 февраля 1905 года высочайшего рескрипта. В нём Николай II впервые соглашался привлекать к подготовке законодательных актов выборных народных представителей[116 - Красный архив. 1995. Т. 1 (8). С. 49.].
Планы булыгинских преобразований вошли в историю как синоним казённой реакции. Им не суждено было сбыться не из-за их утопичности, а из-за полного неприятия их со стороны нарождавшегося общественного мнения. В действительности же Булыгин предлагал достаточно широкий пакет мер по либерализации управления страной. Им были предусмотрены три варианта реформы. По первому из них избранные от населения депутаты вводились в уже существовавший Государственный совет. По второму – из избранных от населения лиц создавались особые комиссии при департаментах Государственного совета или в составе него самого. Наконец, третий вариант, который и был положен в основу Манифеста от 6 августа 1905 года, предлагал создание особого законосовещательного учреждения при Государственном совете или наряду с ним[117 - Государственное управление и самоуправление в России. Очерки истории. М., 1995. С. 112.].
Если бы проект Булыгина был осуществлён, страна сделала бы немалый шаг вперёд, избегая, тем не менее, резкой ломки государственных устоев. Но запаздывание с реформами привело к тому, что такие меры уже не могли послужить выходом из кризисной ситуации. Развитие революции требовало от царя больших уступок. Под давлением либералов из ближайшего окружения Николай II вынужден был согласиться с программой, предложенной С. Ю. Витте, по мнению которого российское общество требовало введения правомочного законодательного органа и гражданских свобод[118 - Реформы в России. М., 1993. С. 1993.].
Реформы 1905–1907 гг. явились наиболее зримым результатом Первой русской революции. Начало им было положено Манифестом 17 октября 1905 года. Он декларировал неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов. Но главным в документе было другое. В нём юридически ограничивалась самодержавная власть царя[119 - Государственный строй Российской империи накануне крушения. М., 1995. С. 6; Российское законодательство X–XX веков. Т. 9. Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций. М., 1994. С. 40–41.]. Манифест не только провозглашал создание законодательного органа, но и устанавливал «.как незыблемое правило», что никакой закон не получит теперь правовой силы без одобрения его народным представительством[120 - Учреждение Государственной думы. М., 1905. С. 65.].
Глубина и радикализм перемен имели и свою оборотную сторону. Бюрократия была не готова к столь существенным новшествам. В дальнейшем она предпринимала всё от неё зависящее, чтобы свести к минимуму масштаб вырванных у неё реформ. Нелегко шёл на ограничения своих полномочий и Николай II. Известно, к примеру, что в ходе обсуждения возможных прав будущей Думы, он предлагал именовать её не Государственной, а Государевой, что совершенно иначе определяло бы её статус[121 - Дёмин В. А. Государственная Дума России (1906–1917): механизм функционирования. М., 1996. С. 10.].
Жажда реванша в правящих кругах росла и в результате негибкой позиции либералов. После издания Манифеста 17 октября возникла потребность в документах, регулирующих деятельность Думы. Фактически возглавивший эту работу Витте провёл целую серию консультаций с виднейшими деятелями оппозиции. Прозвучавшие на встречах с ними требования, поразили его свой жёсткостью[122 - Витте С. Ю. Воспоминания: в 3 т. Т. 2. М., 1960. С. 272.]. Переговоры зашли в тупик[123 - Власть и оппозиция. М., 1995. С. 52–53.]. В результате Витте перешёл на консервативные позиции и выступил за сужение прав Думы, что сказалось на судьбах русского парламентаризма самым непосредственным образом[124 - Дёмин В. А. Государственная Дума России. С. 11.].
Начало работы Думы, первого с 1768 года представительного общеимперского учреждения, было назначено на 27 апреля 1906 года. Незадолго до этого, 20 февраля, было издано «Учреждение Государственной думы». На то обстоятельство, что оно было принято до начало работы самой Думы, стоит обратить внимание. В этом можно увидеть особый смысл. Необходимо было, чтобы закон о народном представительстве вышел именно из рук монарха, а не самого парламента[125 - Государственный строй Российской империи накануне крушения. М., 1995. С. 7.]. Этот шаг на долгие годы вперёд предопределил характер взаимоотношения исполнительной и законодательной власти в России. Суть этих взаимоотношений достаточно наглядно проявилась и в судьбе уже первых двух Государственных дум.
Левые либералы назовут новое учреждение в системе самодержавия «Думой народного гнева». Состав I Государственной думы вполне оправдывал это название. Как минимум
/
мандатов принадлежала в ней оппозиции: кадетам, трудовикам, социал-демократам и примкнувшим к ним беспартийным. Председателем её был единогласно избран профессор Московского университета, известный специалист по римскому праву, кадет и видный представитель русского масонства С. А. Муромцев[126 - Государственная Дума. 1906–1917. Стенографические отчёты. М., 1995. Т. 1. С. 36.]. Либеральная оппозиция предъявила власти ряд общедемократических требований. Было среди них и требование «ответственного министерства»[127 - Там же. С. 59–63.]. Однако центральным в первой Думе был аграрный вопрос, на радикальном решении которого настаивали депутаты.
В ответ на это царские чиновники развернули травлю Думы в подконтрольных правительству изданиях. В «Правительственном вестнике» печатались многочисленные «всеподданнейшие письма», материалы, искажающие деятельность парламента. А 9 июля 1906 года, придя на очередное заседание, депутаты увидели перед собой запертые двери и рядом на столбе царский манифест о прекращении работы Думы. Около 200 депутатов не подчинились решению исполнительной власти и собрались в Выборге, где ими было принято воззвание «Народу от народных представителей». «Выборгское воззвание» отличалось своей бескомпромиссностью. В нём, по существу, звучал призыв к общегражданскому бойкоту правительства. Позже, действуя именно так, Ганди добился падения британского владычества в Индии. «Ни копейки в казну, ни одного солдата в армию» – требовали думцы[128 - См. Государственная дума в России. М., 1957. С. 73–89.]. Но правительство и не вошедшие в Думу крайне левые партии уже успели создать о Думе мнение как о «пустой говорильне», и обращение депутатов осталось неуслышанным. I Государственная Дума просуществовала 72 дня, что невольно заставляет вспомнить судьбу Парижской Коммуны и Иваново-Вознесенского Совета[129 - Там же.]. Несмотря на такой короткий срок её существования, современники высоко оценили её роль в истории страны, полагая, что сам факт её деятельности определит на долгие годы направление развития российского общества[130 - Ковалевский М. М. Первая Дума и её заветы // К 10-летию I Государственной думы. Пг., 1916. С. 94.].
Не менее драматично складывались события и вокруг II Государственной Думы. Она работала всего 103 дня: с 20 февраля по 2 июня 1907 года. В ходе выборов во II Думу проявилась важная черта российской политической жизни. Речь идёт о размывании электората центристских партий. Катеты, к примеру, потеряли во II Думе по сравнению с первой 80 депутатских мест. Накопление сил шло на полюсах политического спектра. Усилили свои позиции правые. Особенно впечатляли успехи левых. Из 518 мест 118, т. е. более 20 % принадлежало социал-демократам, эсерам и народным социалистам. К ним примыкали ещё 104 депутата формально беспартийной, но находившейся под сильным влиянием левых крестьянской трудовой группы. В общей сложности на долю социалистов приходилось 43 % депутатских мандатов. По этому показателю, а также по количеству депутатов, пришедших в Таврический дворец прямо от станка и сохи, русская Дума оказалась самым левым парламентом мира[131 - Государственная Дума. 1906–1917. Стенографические отчёты. М., 1995. Т. П. С. 6.].
Среди важнейших вопросов во II Думе оставался аграрный вопрос, из-за которого была распущена I Дума. Кроме того, депутаты обсуждали деятельность военно-полевых судов, положение безработных, призыв в армию и другие актуальные для страны проблемы. Чтобы умалить значение парламента и фактически саботировать его работу, правительство решило своеобразно использовать своё право вносить на рассмотрение Думы законопроекты. Воспользовавшись более чем шестимесячной паузой в работе Думы, кабинет Столыпина подготовил для рассмотрения в ней большое количество документов, касающихся второстепенных по важности вопросов. Целью правительства было завалить парламент законодательной «вермишелью» и не позволить ему стать органом, объединяющим живые силы страны. Когда эта тактика провалилась, самодержавие пошло на государственный переворот. Предлогом для него стала якобы готовившийся социал-демократической фракцией Думы заговор с целью насильственного изменения существующего государственного строя. 1 июля Столыпин потребовал отстранения от участия в работе Думы 55 социал-демократических депутатов и немедленного лишения 16 из них депутатской прикосновенности. Революция, начавшаяся провокацией, провокацией и заканчивалась, что лишний раз говорит о роли этой формы политической борьбы в России… В воскресенье, 3 июня 1907 года, указом царя II Государственная дума была распущена[132 - Там же. С. 9.].
Сутью государственного переворота, однако, был не сам роспуск Думы. Статья 105 Основных государственных законов не требовала ни обосновывать, ни мотивировать причины роспуска Думы[133 - См.: Государственный строй Российской империи накануне крушения. М., 1995. С. 26.]. Право роспуска было действенным средством в руках исполнительной власти в её отношениях с парламентом. Угроза потерять своё высокое положение безотказно заставляло многих депутатов умерять свой тон в общении с правительством[134 - А. И. Гучков рассказывает. // Вопросы истории. 1991. № 9–10. С. 196.]. Незаконным со стороны монарха было произвольное изменение избирательного закона. В Манифесте от 20 февраля 1906 года «Об изменении учреждения Государственной думы» провозглашалось, а позже в Основных государственных законах было закреплено, что избирательные законы не могут изменяться без санкции самой Думы[135 - Российское законодательство X–XX веков. Т. 9. Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций / под ред. О. И. Чистякова. М., 1994. С. 24.].
После принятия нового избирательного закона, по сути, завершился длительный процесс трансформации Российского государства. Органы власти и управления, административная система, сформировавшиеся к этому времени, останутся фактически неизменными вплоть до свержения царизма. Как же выглядели отныне отдельные звенья этой новой российской государственности, задачей которой было упорядочить шедшие в стране модернизационные процессы и не допустить скатывания общества к анархии?
Так, что касается основания государственного устройства, а именно административной системы, то здесь картина была следующей. К началу века Россия делилась на 78 губерний и 19 областей. Губернии в основном делились на уезды. Области – на округа или в ряде случаев на отделы и края. Всех уездов, округов и приравненных к ним административных единиц насчитывалось 815. Более мелкими единицами выступали волости (в русских губерниях), гмины (в Царстве Польском), станицы (в местностях, заселённых казаками), улусы и другие образования. Всего подобных административных единиц насчитывалось 18012. Некоторые города были исключены из уездно-окружной системы и управлялись как самостоятельные административные единицы. Города Царское Село, Петергоф, Павловск и Гатчина считались дворцовыми. Управление ими находилось в руках придворного ведомства. Кроме этого некоторые ведомства имели и свои административные единицы. Так, в начале века в стране действовали 14 военных, 12 судебных и 15 учебных округов, и кроме этого – 62 духовные епархии (церковь, как известно, была в то время частью государственного аппарата)[136 - Россия: энциклопедический словарь. Л., 1991. С. 212–213.].
Таким образом, волость служила низшим звеном государственного управления. Важно подчеркнуть, что волость не являлась территориальным подразделением уезда. Охватывая лишь земли с крестьянским населением, волости не покрывали всей площади уезда. Поэтому волость – это единица крестьянского управления, а также суда.
Ниже волости находилась сфера крестьянского самоуправления. Процесс формирования органов крестьянского самоуправления в том виде, в каком они вошли в XX век, был начат отменой крепостного права. Отмена крепостного права в этом смысле с точки зрения политического устройства имела ещё большее значение, чем с точки зрения экономики. Разрушая прежние патерналистские отношения, государство нуждалось в новой системе политической адаптации крестьянства. Все последующие реформы управления можно считать следствием этого шага.
В основе органов крестьянской организации находилось «сельское общество». Оно состояло из крестьян одного или нескольких сёл, совместно пользующихся угодьями, «или же имеющих другие общие хозяйственные выгоды»[137 - См. Сборник законоположений о крестьянских и судебных учреждениях. Тула, 1899.]. Таким образом, речь по существу идёт об общине. Важно подчеркнуть, что правительство пыталось придать ей не столько хозяйственный, сколько административный статус. Органом управления сельским обществом был сельский сход. Он выбирал сельского старосту и других должностных лиц. В волость объединялось несколько таких сельских обществ. Высшей властью в волостях обладали волостные сходы, избираемые, как правило, на трёхлетний срок[138 - Мельник Г., Можейко И. Должностные знаки Российской Империи. М., 1993. С. 16.]. Волостной сход избирался общиной, но вовсе не согласно местной традиции, как считает американский исследователь Д. Дж. Рейли[139 - Рейли Д. Дж. Политические судьбы российской губернии: 1917 в Саратове. Саратов, 1995. С. 80.], а согласно закону[140 - Сборник законоположений о крестьянских и судебных учреждениях. Тула, 1899. С. 71.].
Несмотря на постоянную череду преобразований, вплоть до 1917 года крестьянское самоуправление так и не удалось полностью вписать в систему государственного управления. Сфера его деятельности замкнулась на локальный уровень. Выше волости политическая инициатива крестьян не допускалась. К 1913 году действовали губернские и уездные по крестьянским делам присутствия, а также земские участковые начальники. В их функции входил надзор над органами крестьянского самоуправления.
Сами же уездные и губернские органы власти от крестьянского самоуправления никак не зависели. Управление здесь находилось в руках представителей центральной власти: урядников – в уездах, губернаторов и генерал-губернаторов – в губерниях. Генерал-губернаторы назначались в столичные губернии или окраинные территории либо для управления несколькими губерниями или областями, объединяемыми в особую административную единицу – генерал-губернаторство или край[141 - Россия. 1913 год: статистико-документальный справочник. СПб., 1995. С. 263.]. На должность губернатора и генерал-губернатора могли претендовать только князья, графы, бароны и прочие представители высшей аристократии[142 - Герасименко Г. народ и власть (1917). М., 1995. С. 29.]. К примеру, генерал-губернатором Москвы был Великий князь Сергей Александрович, убийство которого И. П. Каляевым 4 февраля 1905 года стало важным событием Первой русской революции[143 - См. Фишер Л. Жизнь Ленина. М., 1997. Т. 1. С. 73.].
С 1864 по 1892 гг. создаются губернские, уездные и городские органы самоуправления. Среди причин, толкнувших самодержавие на этот шаг, называют, как правило, развитие в стране капитализма. Считалось, что благодаря рынку вся инфраструктура общества усложнилась настолько, что прежний аппарат управления оказался не в силах нормально руководить им. Среди предпосылок реформ самоуправления называлась отмена крепостного права. Имелось в виду, что отмена рабства дала возможность охватить самоуправлением большую часть общества[144 - Отметим, что подобная трактовка восходит ещё к классической дореволюционной историографии, формировавшейся в конце XIX – начале XX вв. под сильным воздействием позитивизма, в том числе западничества и экономического материализма. См., напр.: Ключевский В. О. Сочинение в 9 томах. Т. 5. Курс русской истории. М., 1989. С. 277.].
Сегодня подобные схемы, рождённые типичным европоцентризмом, вряд ли можно признать достаточными. На Западе, действительно, рост буржуазных отношений мог стать единственной причиной реформ в сфере управления. Переход от феодализма к капитализму там сопровождался приобщением населения к местному управлению. Не могли не сказаться в странах Запада темпы и размах капитализации общества. В России ситуация была в корне иной. Известно ведь, что дискуссии о темпах развития и зрелости русского капитализма не утихали вплоть до периода сталинской индустриализации. Понятно, что возникли они не на пустом месте. Среди причин, породивших эти дискуссии, были и особенности русского капитализма, и его относительная отсталость[145 - Краус Т. Своеобразие русского исторического процесса: о дискуссии Л. Д. Троцкого и М. Н. Покровского // Историческая наука России в XX веке. М., 1997. С. 200–216; Соколов В. Ю. История и политика. (К вопросу о содержании и характере дискуссий советских историков 1920-х – начала 1930-х гг.). Томск, 1990. С. 28–109.]. Но если подобное было актуально применительно к началу XX века, то к середине XIX века это было актуально ещё в большей мере.
Кроме того, капитализм рос в России как уклад, параллельный по отношению к традиционной экономике страны. Отсюда его верхушечный характер. Первоначально буржуазные отношения в большей мере затрагивали верхи общества. Подавляющее большинство населения, принадлежавшее к социальным низам, долгие годы оказывалось не вовлечённым в орбиту развития капитализма. Впрочем, и в прошлом признавалось, что аграрная реформа 1861 года носила ущербный характер и сковывала рост в стране буржуазных отношений.
И здесь мы вновь должны вернуться к подлинной роли в новейшей русской истории отмены крепостничества. Оно было не только предпосылкой, но и основной причиной реформ и контрреформ самоуправления. Совпав с демографическим подъёмом, оно привело к мощному взрыву энергии крестьянства. Государство в одночасье оказалось перед лицом лавинообразного роста рядов своих граждан. Отсюда и вытекала та ситуация, о которой писали исследователи, но объясняли её чисто с позиций экономического детерминизма. К середине XIX века целые пласты общества оказались вне сферы управления. Провалились, выпали из-под государственного контроля целые отрасли народного хозяйства, к тому же те из них, которые были призваны ориентироваться на обслуживание нужд населения. Либеральное окружение царя уже тогда убеждало передать какие-то функции по обеспечению жизнедеятельности сельских жителей учреждениям, избранным всеми слоями общества[146 - Государственное управление и самоуправление в России. Очерки истории. М., 1995. С. 125–126.]. Тем самым самоуправление должно было не только поглотить излишнюю социальную энергию деревни. Ставилась цель создать нового посредника вместо прежней фигуры крепостника между государством и крестьянством.
Такой подход позволяет дать рациональное объяснение многим вещам, прежде толковавшимся исключительно с точки зрения волюнтаризма того или иного монарха. Так, становится понятным, почему в органах самоуправления численно преобладали прежние крепостники, а права крестьян были всячески урезаемы, хотя это и вело к их постепенному загниванию. К примеру, в 1912 году в Николаевском уезде Самарской губернии не состоялось ни одного земского собрания. Причиной этого было то, что в уезде резко упало количество дворян и невозможно было обеспечить их представительство в земских органах. Комментируя обращение самарского губернатора по этому поводу, министр внутренних дел отмечал, что ситуация в Николаевском уезде «не представляет явления исключительного»[147 - См.: Шефер А. Органы «самоуправления» царской России. Куйбышев, 1939. С. 24–25.]. И действительно, в 1909–1912 годах в 316 уездах должно было быть избрано 1831 гласных, в то время как всех дворян-избирателей насчитывалось лишь 1444. В то же самое время основным ресурсом пополнения земской казны было обложение не помещичьих, а крестьянских земель[148 - Государственное управление и самоуправление в России. С. 137–138; 136.]. Во главе же земств стояли председатели дворянства соответствующего ранга. К слову сказать, сохранило дворянство и своё сословное самоуправление. В основе его, как и прежде, оставалась система дворянских собраний. Впрочем, как и земское, дворянское самоуправление своего общеимперского звена не имело.