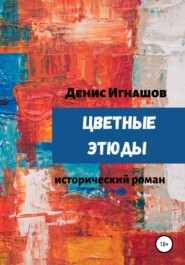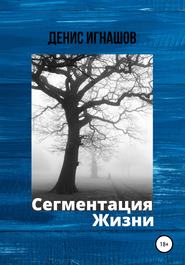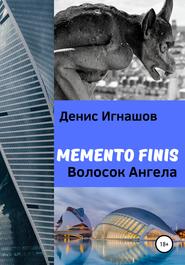По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Memento Finis: Демон Храма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы с майором сели на скамейку.
– И что же ты натворил? – Рыбаков холодным, мутным взглядом посмотрел сначала на майора, потом на меня.
– Веришь, Дмитрий Иванович, ничего плохого. А вот меня хотят превратить в убийцу и предателя.
– Ну-ну, это серьёзно, – с важным видом протянул старик. – И что произошло?
– Дмитрий Иванович, дело связано с неким Полуяновым. Не знакома вам эта фамилия?
– Как же не знакома… Знакома.
Сарычев нахмурился:
– Хотелось бы услышать о нём.
Рыбаков ещё раз внимательно посмотрел на меня:
– А твой товарищ?..
– Он со мной, – отрезал майор. – Можете не стесняться.
– Ну, что ж, племянник, думаю, ты знаешь, что делаешь, – заметил старик глубокомысленно. – Дело было году в восемьдесят третьем. Я работал в Первом управлении. Костя Пахомов, тогда ещё капитан и мой подчинённый, рассказал мне о своём знакомом историке Полуянове, который, по его утверждению, знает, где может находиться легендарный перстень царя Соломона.
– Пахомов был знаком с Полуяновым? – недоверчиво спросил Сарычев.
– А как же, – уверенно промолвил Рыбаков. – Конечно… Они же были одноклассниками.
– Одноклассниками?! – Поражённый услышанным я привстал.
Полковник смерил меня и майора непонимающим взглядом.
– Так мне продолжать, или вы так и будете с открытыми ртами здесь отсвечивать? – спросил он.
Я сел на место.
– Повстречался я с этим зеленоглазым чёртом. Естественно, сначала инкогнито, не раскрывая своего звания и места работы, чтобы понять, с кем имеешь дело – увлечённым, знающим человеком или сумасшедшим, – продолжил полковник. – Этот самоуверенный парень меня заинтриговал. Он говорил о секретных архивах последних тамплиеров. И это были не просто рассуждения, он называл вполне конкретные места, где могли храниться документы.
– С адресами? – спросил Сарычев.
– Да, с конкретными адресами. Это были три небольшие церквушки на юге Франции, в пределах Тулузы. Полуянов утверждал, что именно в хранившихся там документах можно найти указание на точное местоположение знаменитой реликвии ордена Храма.
– И вы ему поверили? – удивился Сарычев. – Откуда у молодого советского историка, который и за границей-то никогда не был, появилась такая информация?
– Он смог косвенно подтвердить свои слова…– невозмутимо ответил полковник. – Полуянов показал нам письмо своего прадеда Святослава Львовича Ракицкого, датированное 1890 годом и адресованное барону П…
– Барону П.?! – От неожиданности я опять привстал.
Рыбаков замолчал и раздражённо посмотрел на меня.
– Вы так и будете окружающий народ пугать? – Полковник глянул на своего племянника. Тот дёрнул меня за руку и усадил на скамейку.
После непродолжительной паузы Рыбаков продолжил:
– Так вот. Письмо было написано по-французски и действительно содержало информацию о некоем документе, разделённом на три части и спрятанном в неприметных деревенских церквях. Соединённые вместе, эти части документа должны были показать место, где находился перстень Соломона.
– Вы проверили подлинность письма, установили адресата, выяснили, откуда у прадеда Полуянова могли появиться подобные данные? Может, это всё была шутка? – спросил Сарычев.
Рыбаков поморщился. Было видно, что ему не очень приятно вспоминать детали этой истории.
– Мы особенно ничего не стали проверять. – Слова полковника прозвучали устало-виновато.
– А если бы оказалось, что этот барон П. давно воспользовался советом прадеда Полуянова и изъял документ?
– Но письмо ведь не было отправлено. Иначе оно не оказалось бы у Полуянова, – резонно заметил Рыбаков.
– Занимательная история, – проговорил Сарычев. – Получается, что КГБ, самая серьёзная и мощная на тот момент спецслужба мира, получив достаточно отрывочные сведения от рядового научного работника, отнеслась со всей серьёзностью к этой информации, даже не проверив их? – сказал Сарычев.
– Да ничего бы так и не случилось. – Полковник огорчённо вздохнул. – Но я – чёрт меня дёрнул! – решил доложить о полученной информации наверх. Там оказался один весьма высокий чин (не буду говорить его фамилию – упокой господи его душу), который вполне серьёзно интересовался всей этой мистикой. Вот он и дал указание – заняться темой. Мы и занялись. Полуянову организовали через Академию наук командировку во Францию, придали ему в качестве сопровождения своего сотрудника и отправили в Тулузу. Полуянов и наш агент проверили все адреса. Естественно, там ничего не обнаружили. Более того, церквушки оказались совсем уж не такими старыми, чтобы быть хранительницами секретов средневекового рыцарского Ордена. Все три церкви были построены в восемнадцатом веке, то есть спустя четыреста лет после процесса над тамплиерами. Через месяц после начала поисков мы решили их свернуть. И вот за день до отлёта на родину Полуянов исчезает. В гостинице Тулузы находят труп нашего агента. Медики констатировали отравление сильнодействующим ядом. Следов борьбы не было, пузырёк с ядом стоял на столе, посторонних пальчиков в комнате не нашли – официально прошло как самоубийство. Мы долго искали Полуянова, но через год бесплодных поисков списали это дело в архив. Меня за этот провал турнули на пенсию. Генерала так и не дали… Но я ещё хорошо отделался.
– А о Полуянове так никаких сведений и не появилось? – поинтересовался Сарычев.
– Ну почему же! В девяностом году его видели в Риме. Наш агент абсолютно случайно наткнулся на него в одном из ресторанов города. В памяти сработала старая ориентировка (мы после исчезновения Полуянова разослали по резидентурам Европы его фотографию). Агент доложил об этом в Центр. Когда решили установить за Полуяновым наблюдение, его уже и след простыл. И самое интересное выяснилось тогда, когда мы решили проверить личность человека, с которым в тот вечер ужинал Полуянов… Это был некий Джордж Бартли, агент ЦРУ.
На этот раз со своего места молча поднялся Сарычев, а я дёрнул его за рукав рубашки. Рыбаков гневно посмотрел на племянника.
– Ребята, это у вас коллективное? – обеспокоенно и совсем не шутливым тоном спросил он и далее, обращаясь к племяннику, заметил: – Я вижу, Иван, ты уже знаешь, кто такой Джордж Бартли. Что ж, обрисую его портрет вкратце. Бывший кадровый сотрудник ЦРУ из семьи русских эмигрантов, сейчас в отставке. В восьмидесятых годах был помощником атташе по культуре в Москве, имел неплохую агентуру. Большие проблемы нам принёс один его крот в ГРУ. Полковник Зимин. Не слышали об этом деле?.. Большой скандал был. Тогда из-за этого полковника многие по шапке получили. Вышли на него абсолютно случайно. Причём не мы или военные, а милиция. Взяли его на спекуляции валютой в особо крупных размерах – при сбыте попал на милицейского информатора. Заинтересовались, откуда валюта, потянули – оказалось, он на ЦРУ уже пять лет работал. А завербовал его, когда тот ещё за границей под прикрытием служил, наш общий знакомый Джордж Бартли. Бартли и в Москву-то устроили, чтобы он поближе к своему агенту был. Зимин покончил с собой – неаккуратно наша контрразведка сработала. Ну, понятное дело, дипломатический скандал. Бартли объявили персоной нон грата… Закончил он карьеру в США, недолгое время преподавал, а сейчас, кажется, в Англии живёт и работает на какую-то частную контору.
– А что из себя контора представляет? – заинтересованно спросил Сарычев.
– Да ничего, кажется, особенного. Отстойник для работников спецслужб. За хорошие деньги добывают информацию и выполняют другие деликатные задачи.
– А отец Бартли? – поинтересовался майор.
– И про него знаете, – пробурчал Рыбаков. – Загадочный персонаж. Был командиром Красной Армии, перешёл на сторону немцев и сразу попал на работу в идеологическое VII управление РСХА, потом работал над специальным проектом «Мани» под эгидой «Аненербе».
– «Аненербе»? – удивился Сарычев. – Что это такое?
– «Аненербе» (Наследие предков) – специальная научно-исследовательская организация СС. Появившись как частная инициатива некоего лингвиста, мистика и оккультиста Германа Вирта, «Аненербе» со временем по распоряжению Гиммлера стало исследовательской организацией СС, объединившей под своим именем десятки институтов и программ.
– Что представлял собой проект «Мани»?
– В том-то и загвоздка, что никто не знает этого… Все документы по нему исчезли или были уничтожены, никого из тех, кто был задействован в проекте, кроме Леонида Барташевича, мы не знаем. Да и о наличии проекта советские спецслужбы узнали случайно. Изучали имевшиеся архивы РСХА и нашли единственную запись о том, что Барташевич был заместителем руководителя этого проекта. Руководителем проекта значился некий профессор, доктор философии Фридрих Мейер, тоже достаточно таинственная личность – нашими работниками не было найдено никаких фотографий и никаких других упоминаний об этом человеке. Вот и все документальные данные. Никто из немногочисленных работников «Аненербе», попавших в руки советской контрразведки, ничего о проекте не знал. Все, кто мог что-либо пояснить по этому вопросу, оказались на Западе, включая Барташевича.
– Что означает слово «мани»?
– Проблема в том, что даже этого мы не знаем.
Майор удивлённо присвистнул: