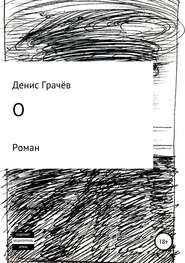По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воронеж
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Воронеж
Денис Александрович Грачёв
Дебютное прозаическое произведение Дениса Грачёва, на момент написания повести автору исполнилось 15 лет. Антиутопия о подземном мире будущего с максималистским уничтожением бытия в финале. Повесть была опубликована в зауральской областной газете «Молодой ленинец» (впоследствии «Субботняя газета») в 1989 году. В черте Кургана находилось поселение Копай, фактически район землянок – люди обитали в жилищах, буквально выкопанных в земле. В Копае водились крысы, нередко кусавшие людей. Именно эти реалии могли сподвигнуть Грачёва на создание его первой повести.
Голос за стеной невнятно бормотал:
– И стали люди жить грязно: всё в них грязно стало: и дела, и мысли, и внешность нечиста. Пришло тогда на землю множество тварей, и откуда взялись они, никому не было ведомо. Только ползли они отовсюду – из морей-океанов, из-под земли, с воздуху налетали. И пришла Зверюга Ненасытная в город и людей там немало покалечила. У иных одну голову в гроб клали, у иных просто на гробе писали: мол, тогда-то родился, умер в 93-м году, а в гробу, значит, и не было ничего – съела Зверюга человека, не оставила ни единой его косточки.
Совсем невмочь стало жить людям на земле своей, и ушли они под землю, и поселились так: наверху, в первых ярусах города того подземного поселились люди бедные, неимущие, в ярусах последних – власть предержащие. Но не было людям и там покоя: многочисленные лики зверя – стаи крыс заполонили город.
Голос оборвался, словно человек поперхнулся чем. Но через минуту снова послышался – тихий, еле различимый. Бормотание сводило с ума, раздражало…
Вдруг голос оборвался, на секунду всё стихло, а потом, как кровь из открытой вены, плеснул визг. Этот тонкий, пронзительный визг человека, раздираемого голодными крысами, сразу узнаешь.
Яков достал нож и положил его на стол. Он был готов полоснуть по первой же показавшейся из норы крысиной морде.
Дядя Сеня спросонья сипло закашлял, заматерился и громыхнул ведром – понёс выносить парашу. Пламя свечи полыхнуло косым лучом по ноздреватым земляным стенам, по затёртым, словно шёлковым, фотографиям: улыбка усатого генералиссимуса, мать с маленьким Яшкой на руках (край у фотографиями был оторван, и потому Яшка был без головы); молодой дядя Сеня в военной форме (внизу кудряво выведено «БЕРЛИН, 1946»), плакат из «Плейбоя» с голозадой красавицей и чудовищным сгибом посередине, рассекавшим её надвое.
Дядя Сеня возвратился, поставил лязгнувшее ведро в угол. Пиджак на нём местами засаленный до блеска – и спит в нём, и ест, ногти все обломанные, грязные.
– Ты, Яшка, помнишь, как та-то хреновина по тебе рикошетом прошла? А с отцом-то твоим что она сделала!.. Ой, Бог ты мой…
И в горле Якова встал столб от желудка до затылка – и не согнуться, и не разогнуться, а во рту – тяжёлый аромат испарений. Как это там было?.. Полдень жёг затылок. Пруд был сплошь покрыт жёлтой шершавой коркой опавшего листа. Чёрная вода шевелилась под листьями, пытаясь выбраться из их шершавого плена. Яков плыл, высоко выбрасывая руки, и освобождённая вода летела навстречу солнцу, превращаясь в перламутровые капли, медленно парящие в сером воздухе. Вода со стоном падала обратно, застывала жемчужными бусинами на шёлке сухих листьев. Яков плыл, отплёвываясь от тяжёлой душащей горечи и медового аромата застывшего пруда.
Скорей бы… Дно цепкими пальцами обволокло ноги и, как живое, поползло по щиколоткам и выше. И тут перед глазами Якова заколыхалась нефтяная могильная темнота. Он задыхался, но, странно, чувства страха не было. Серебряные круги звонкими монетами выскакивали откуда-то, плавно летели диковинными птицами и, звеня, лопались, рассыпа?лись на десятки радужных осколков. Но вот большой серебряный круг совсем без звона, внушительно и страшно выплыл из глубины, встал перед глазами, готовясь броситься, растерзать. Бросится?..
Скорей бы!.. Он готов, он уже готов… Не стало того, что может спасти. Он уже готов. Круг медленно, словно во сне, рухнул. Падая, раскалывался на части, и колючие звёздочки осколков прыскали куда-то вверх. Огненная боль тугим жгутом связала тело, и оно рухнуло, полетело куда-то вслед за обломками серебряного круга, а боль синей вихрастой кометой долго металась в тугой темноте. И сердце большой испуганной птицей полыхало в каменной клетке дна.
Долго Яков лежал в больнице после этого купания. Вытащили его – а глаза чужие. Страха в них совсем не было, а была какая-то умиротворённость. С тех пор Яков не то чтобы изменился – просто возник в глазах его тёмный и мягкий свет, словно кто другой смотрел вместе с ним изнутри своим холодным взглядом. И чувствовал Яков, будто проросли в душе его какие-то семена, в час рождения его посеянные, и продолжают те семена теперь свой рост неумолимо, и скоро, скоро уж дадут плоды. И ещё понял Яков: растит эти семена в душе его эфиоп, и горит огонёк в доме его: но хоть и веет теплом от дома эфиопа, всё же холодно внутри. И эфиопу холодно, тревожно – мучает неизвестность его: какие всходы дадут семена те? Забирается он тогда в отчаянии на самый верх колокольни и бьёт, бьёт в колокол. Теплее становится Якову, чудится город Воронеж вдали…
Изменилась жизнь его. Думал он часто, что дал ему этот кто-то жизнь напрокат, а как настанет время, спросит с него, Якова – «как ты использовал её»? И ещё полувспоминалось-полумерещилось: глаза в глаза – огромный боров с костяными саблями клыков. Глаза абсолютно круглые и блестящие, как омут. Массивная и студенистая теплота и прель в них, спокойная мощь, поразительно ровная глубина. Кольнули глаза и поволокли куда-то, потянули всё быстрей и быстрей, в студёную продолговатую бездну. И вот уже в длинной тёмной трубе ветер расшибает лицо, расплющивает нос, волосы бьются, как живые, – вот[-вот] оторвутся, полетят сами. И рядом… кто-то летит рядом – угловатый и тёплый, и через ноздри сладковатый запах рвоты… Но тут кто-то убеждённый в своей вселенской правоте выглядывает из зрачков Якова – и чудовищный боров делает шаг, сминая подвернувшийся стол, останавливается и начинает растворяться в воздухе.
И снова возвращается голос дяди Сени:
– Слышь, Яшка! Помнишь, как мать твоя с третьего этажа спрыгнула? Поломала, конечно, что-то, но ведь жива! Пока-а там эта тварь по лестнице спускалась, она и отползла немного – в подвал заползла, спряталась. Тварь вышла и воздух нюхает – и морду к подвалу поворачивает. Ё-моё, думаю, сожрет племянницу мою. Я бегом на кухню, нож взял, смотрю из окна. А тварь к двери уже подходит. Ну, думаю, кем я буду, если племянницу на моих глазах – того… И прыгнул… Из окна… Бог мой! Белый свет в глазах помутился. Пока очухался – глядь, евоная крокодильская рожа уже два метра от меня. Я ему бах ножом в глаз, а она ни фига не чувствует – без глаза, значит, а прёт, как танк. Отступаю потихоньку, по роже её полощу ножиком, а ей ни хрена. И чё эта тварь тогда меня не кончила… Я ить потом видел: как прыгнет метров на двадцать… да-а, а что ты думаешь… так и раскроит человека надвое. Ну дак вот, я уж так немного соображать стал, а рядом лестница пожарная – и полез по ней. Хреновина эта, понятно, за мной. В общем, долез до крыши, она тоже начала залезать, а я её и скинул. Скинул, смотрю вниз, а та-ам… ё-моё… полный двор этих гадин, места живого нет. Ну уж тут, ясно дело, матери твоей и думать нечего… к-хм… да… бесполезно… А вот о себе подумать надо было. Ну, да ты же помнишь, Максим Алексаныч из тридцать седьмой себе на чердаке мастерскую устроил? Я, значит, бы-ыстрей-быстрей, кувалду беру, бегом к этой лестнице и давай штыри выколачивать. Отколотил их, лестницу оттолкнул: дом-то старый, скобы сразу поотлетали. Ну, думаю, теперь не залезут. Возвращаюсь в мастерскую, а там ты уже сидишь, дверь из подъезда разными шкафами закидал – герой. Да, Яшка, кто там кричал-то? Крысы, что ль, сожрали кого? Соседа, говоришь? Ты бы пошел, поморил их, а то ведь житья не дадут.
Яков взял баллон и вышел в коридор. Коридор был общий, с низким крошащимся потолком. Когда идёшь, постоянно задеваешь головой керосиновые фонари. Керосин подавался по тонким резиновым трубкам. В некоторых местах, где земля обсы?палась больше, они были видны.
Кое-где трубки давали течь, и керосин лёгкими пахучими каплями сочился на землю. Люди подставляли тазы, бидоны и жгли его в жилищах.
Квартиры лепились одна к другой – норы три на три метра. В иных уж и стен не было: сходят люди на базар, купят какую-нибудь тряпку, повесят вместо занавески – и живут. Со стороны коридора тоже занавески, куда хочешь, туда и входи, хотя брать, конечно, нечего – третий ярус ведь, шантрапа… Если у кого и есть что в городе, то пониже. Там почти у всех двери, и квартира на квартиру похожа, а начиная с сорок пятого яруса вообще вход по особому разрешению.
«Ох, душно!» – как стон откуда-то сверху, и понять трудно, то ли и вправду кто-то вздохнул, то ли показалось, то ли крыса под потолком прошелестела. Яков открыл вентиль у баллона и закинул его к соседу за занавеску, где шуршала, копошилась, чавкала душная серая масса. Яков представил, что будет через секунду: баллон, подскакивая и оставляя за собой бурый газовый шлейф, покатится по полу. Крысы неохотно будут уступать ему место, кто-нибудь попробует укусить, но через мгновенье все забьются в конвульсиях, раздуваясь на глазах…
– Ну чё, заморил крысюк? – спросил появившийся откуда-то сбоку дядя Сеня.
– Не видишь, что ли? Заморил, понятно.
– Ну ладно, Яшка. Хоронить мы будем – кому здесь чего надо? Свиньи стали – не люди. Бери лопаты… Помнишь, как Лидку-то хоронили?
…Милиционер был пожилой, полный, с тяжёлыми грязными морщинами.
– В общем, так, – сказал он и поковырял в зубах, – квартиры выбирайте, какие хотите, талоны у всех на руках, раздатка на пятом ярусе. Если что, наше отделение в пятьдесят третьей. – И ушёл.
– Ну че, дядь Сень, где располагаться будем?
– Да здесь и будем. Мы ж не двужильные. Куда всё это тащить? – махнул он на потрескавшиеся кровати, стулья и стол.
– К-хм… Ты, дядь Сень, тащи пока, а я вон дамочке помогу.
– Ух ты, помощник, – засмеялся дядя Сеня, рассыпав по губам кривые жёлтые зубы. – Ну давай, давай уж.
Ничего тогда не предполагал Яков, а просто увидел в ещё сыром от непросохшей земли коридоре девушку, бьющуюся с кроватью – никак она не могла затащить в свою квартирку эту кривую колдобину. И что-то накатило на Яшку – не жалость, а просто сделалось внутри как-то пусто и холодно, словно ветер осенний там гулял. И потом – ощущение из раннего детства, как вкус давно забытого пирожного: запах комнаты, дома, и уже где-то далеко-далеко в душе он словно бы слышал тиканье часов. Только каких часов, и зачем это они вдруг застучали, не смогли б ответить ни Яков, ни душа. И припомнилось: стоит он на берегу пруда, и ветер тёплый-тёплый, небо над головой ласковое, деревья шелестят заветно, тайно. И в то же время кажется, что обрушится сейчас на тебя что-то большое. Но это не страшно, совсем не страшно – ощущение внутри, как перед прыжком в бездну: вот она, ужасная, но зовущая. И снова внутри тихо, а потом уже сильнее бьётся – часы или сердце, но удивительно точно отмеряет время, а пустота… эта пустота внутри всё сосёт, всё зовёт куда-то, но обрывается вдруг, и лишь одна леденящая тоска, и кровь стынет в жилах. Хочется крикнуть, но крик затухает в горле и вырывается наружу хрипом, как стон. Яков открывает рот, словно думая, что тоска, как птица, вылетит сейчас из глотки, устремившись в далёкий Воронеж, и никогда уж не возвратится, но во рту гуляет лишь аромат прелых листьев…
И вот тогда Яков заплакал – от этой страшной, разламывающей душу тоски, от безудержного ничего, готового в любую секунду навалиться и раздавить его. Плакал он нечасто, а уж по такому поводу… Но сдержал он слёзы, наскоро вытерся тыльной стороной ладони, подошёл к девушке и спросил сиплым срывающимся голосом:
– Вам помочь? – и прокашлялся.
– Помочь? Да-да, конечно.
Девушка встрепенулась, как птичка, – очень похожа на птичку: маленькая, худенькая, как ребёнок, и голос… голосочек тоже, как у ребёнка, – совсем ангельский, и платье ситцевое – совсем уж бледное, застиранное. По тем временам, когда люди ещё не очень обносились – непривычно заношенное. Но главное, что больше всего поразило Якова – глаза, очень большие, прямо-таки огромные глаза, коричневые и такие глубокие – Яков захлебнулся. И снова внутри заколотилось, забилось, и не убежать от этого… Он сгреб в охапку железную кровать, прижал её к себе, будто думал, что она возьмет на себя, вытянет боль. Ребристые бока кровати глубоко врезались в его тело.
– Куда? – язык ворочался тяжело, как в колоколе.
– Вот сюда. Здесь…
Яков поставил кровать и, почему-то совершенно без сил, повалился на неё. Пружины тяжело ухнули под его телом и, непривычные к такой тяжести, заворчали, глубоко осели. И провалилось всё вдруг, разом рухнуло куда-то…
Выбив окно, он взлетел над землей высоко-высоко, она стала видна вся – грязно-синий шар, и вдруг прямо под ним – огромный белый гриб ядерного взрыва… Но вот он снова на земле. Вокруг бескрайняя степь, заросшая травой. До горизонта ничего не видно, кроме этого поля, сплошь изрезанного железнодорожными путями, по которым ходят небольшие оранжевые тепловозы, толкающие перед собой платформы. На платформах – головы, огромные головы, они высматривают на полянках меж путями людей. Стреляют молниями из глаза, убивают. Не убивают только эфиопов. Это они, склонив головы, стоят на коленях, но в глазах их весёлые искорки, словно бы играют в рабов.
Меж ними ходят надсмотрщики: все ли эфиопы?
«Подними голову!» – и Яков поднимает искажённое страхом лицо. «Эфиоп», – доносится до него голос уходящего надсмотрщика, тихий, словно дыхание неведомого Воронежа, и настоящие эфиопы с удивлением смотрят на чужака. И смотрит Яков на свои руки – Господи, они и впрямь потемнели – это он стал эфиопом. «У каждого в душе…» – толкует Яков кому-то. «Что же, что же я хотел сказать? О чём?»
Мучительное пробуждение: сначала из видения, в какую-то гладкую тьму, и ничего вокруг не происходит, а хочется быстрей вырваться отсюда, но ничего не сделаешь, лишь рвётся наружу сердце. "У каждого в душе есть свой эфиоп, у каждого – свой. Он как смертный камень – первое и последнее воспоминание”.
Сон это был или не сон, только лежал Яков минуту-другую, не больше.
– Что с вами? Что с вами? – тормошила его за плечо девушка. Яков взял её за руку – хрупкая, маленькое ажурное сооруженьице. Девушка не испугалась, не вырвала руку.
– Как вас зовут? – после сна хоть и повисло что-то тяжёлым камнем, но ушла изнутри безжизненность.
– Лида.
– Лида, я иногда буду к вам заходить.
– Конечно, – тряхнула она головой и отчего-то заторопилась. – Заходите, конечно.
Зашел он к ней, конечно, в тот же день.
Денис Александрович Грачёв
Дебютное прозаическое произведение Дениса Грачёва, на момент написания повести автору исполнилось 15 лет. Антиутопия о подземном мире будущего с максималистским уничтожением бытия в финале. Повесть была опубликована в зауральской областной газете «Молодой ленинец» (впоследствии «Субботняя газета») в 1989 году. В черте Кургана находилось поселение Копай, фактически район землянок – люди обитали в жилищах, буквально выкопанных в земле. В Копае водились крысы, нередко кусавшие людей. Именно эти реалии могли сподвигнуть Грачёва на создание его первой повести.
Голос за стеной невнятно бормотал:
– И стали люди жить грязно: всё в них грязно стало: и дела, и мысли, и внешность нечиста. Пришло тогда на землю множество тварей, и откуда взялись они, никому не было ведомо. Только ползли они отовсюду – из морей-океанов, из-под земли, с воздуху налетали. И пришла Зверюга Ненасытная в город и людей там немало покалечила. У иных одну голову в гроб клали, у иных просто на гробе писали: мол, тогда-то родился, умер в 93-м году, а в гробу, значит, и не было ничего – съела Зверюга человека, не оставила ни единой его косточки.
Совсем невмочь стало жить людям на земле своей, и ушли они под землю, и поселились так: наверху, в первых ярусах города того подземного поселились люди бедные, неимущие, в ярусах последних – власть предержащие. Но не было людям и там покоя: многочисленные лики зверя – стаи крыс заполонили город.
Голос оборвался, словно человек поперхнулся чем. Но через минуту снова послышался – тихий, еле различимый. Бормотание сводило с ума, раздражало…
Вдруг голос оборвался, на секунду всё стихло, а потом, как кровь из открытой вены, плеснул визг. Этот тонкий, пронзительный визг человека, раздираемого голодными крысами, сразу узнаешь.
Яков достал нож и положил его на стол. Он был готов полоснуть по первой же показавшейся из норы крысиной морде.
Дядя Сеня спросонья сипло закашлял, заматерился и громыхнул ведром – понёс выносить парашу. Пламя свечи полыхнуло косым лучом по ноздреватым земляным стенам, по затёртым, словно шёлковым, фотографиям: улыбка усатого генералиссимуса, мать с маленьким Яшкой на руках (край у фотографиями был оторван, и потому Яшка был без головы); молодой дядя Сеня в военной форме (внизу кудряво выведено «БЕРЛИН, 1946»), плакат из «Плейбоя» с голозадой красавицей и чудовищным сгибом посередине, рассекавшим её надвое.
Дядя Сеня возвратился, поставил лязгнувшее ведро в угол. Пиджак на нём местами засаленный до блеска – и спит в нём, и ест, ногти все обломанные, грязные.
– Ты, Яшка, помнишь, как та-то хреновина по тебе рикошетом прошла? А с отцом-то твоим что она сделала!.. Ой, Бог ты мой…
И в горле Якова встал столб от желудка до затылка – и не согнуться, и не разогнуться, а во рту – тяжёлый аромат испарений. Как это там было?.. Полдень жёг затылок. Пруд был сплошь покрыт жёлтой шершавой коркой опавшего листа. Чёрная вода шевелилась под листьями, пытаясь выбраться из их шершавого плена. Яков плыл, высоко выбрасывая руки, и освобождённая вода летела навстречу солнцу, превращаясь в перламутровые капли, медленно парящие в сером воздухе. Вода со стоном падала обратно, застывала жемчужными бусинами на шёлке сухих листьев. Яков плыл, отплёвываясь от тяжёлой душащей горечи и медового аромата застывшего пруда.
Скорей бы… Дно цепкими пальцами обволокло ноги и, как живое, поползло по щиколоткам и выше. И тут перед глазами Якова заколыхалась нефтяная могильная темнота. Он задыхался, но, странно, чувства страха не было. Серебряные круги звонкими монетами выскакивали откуда-то, плавно летели диковинными птицами и, звеня, лопались, рассыпа?лись на десятки радужных осколков. Но вот большой серебряный круг совсем без звона, внушительно и страшно выплыл из глубины, встал перед глазами, готовясь броситься, растерзать. Бросится?..
Скорей бы!.. Он готов, он уже готов… Не стало того, что может спасти. Он уже готов. Круг медленно, словно во сне, рухнул. Падая, раскалывался на части, и колючие звёздочки осколков прыскали куда-то вверх. Огненная боль тугим жгутом связала тело, и оно рухнуло, полетело куда-то вслед за обломками серебряного круга, а боль синей вихрастой кометой долго металась в тугой темноте. И сердце большой испуганной птицей полыхало в каменной клетке дна.
Долго Яков лежал в больнице после этого купания. Вытащили его – а глаза чужие. Страха в них совсем не было, а была какая-то умиротворённость. С тех пор Яков не то чтобы изменился – просто возник в глазах его тёмный и мягкий свет, словно кто другой смотрел вместе с ним изнутри своим холодным взглядом. И чувствовал Яков, будто проросли в душе его какие-то семена, в час рождения его посеянные, и продолжают те семена теперь свой рост неумолимо, и скоро, скоро уж дадут плоды. И ещё понял Яков: растит эти семена в душе его эфиоп, и горит огонёк в доме его: но хоть и веет теплом от дома эфиопа, всё же холодно внутри. И эфиопу холодно, тревожно – мучает неизвестность его: какие всходы дадут семена те? Забирается он тогда в отчаянии на самый верх колокольни и бьёт, бьёт в колокол. Теплее становится Якову, чудится город Воронеж вдали…
Изменилась жизнь его. Думал он часто, что дал ему этот кто-то жизнь напрокат, а как настанет время, спросит с него, Якова – «как ты использовал её»? И ещё полувспоминалось-полумерещилось: глаза в глаза – огромный боров с костяными саблями клыков. Глаза абсолютно круглые и блестящие, как омут. Массивная и студенистая теплота и прель в них, спокойная мощь, поразительно ровная глубина. Кольнули глаза и поволокли куда-то, потянули всё быстрей и быстрей, в студёную продолговатую бездну. И вот уже в длинной тёмной трубе ветер расшибает лицо, расплющивает нос, волосы бьются, как живые, – вот[-вот] оторвутся, полетят сами. И рядом… кто-то летит рядом – угловатый и тёплый, и через ноздри сладковатый запах рвоты… Но тут кто-то убеждённый в своей вселенской правоте выглядывает из зрачков Якова – и чудовищный боров делает шаг, сминая подвернувшийся стол, останавливается и начинает растворяться в воздухе.
И снова возвращается голос дяди Сени:
– Слышь, Яшка! Помнишь, как мать твоя с третьего этажа спрыгнула? Поломала, конечно, что-то, но ведь жива! Пока-а там эта тварь по лестнице спускалась, она и отползла немного – в подвал заползла, спряталась. Тварь вышла и воздух нюхает – и морду к подвалу поворачивает. Ё-моё, думаю, сожрет племянницу мою. Я бегом на кухню, нож взял, смотрю из окна. А тварь к двери уже подходит. Ну, думаю, кем я буду, если племянницу на моих глазах – того… И прыгнул… Из окна… Бог мой! Белый свет в глазах помутился. Пока очухался – глядь, евоная крокодильская рожа уже два метра от меня. Я ему бах ножом в глаз, а она ни фига не чувствует – без глаза, значит, а прёт, как танк. Отступаю потихоньку, по роже её полощу ножиком, а ей ни хрена. И чё эта тварь тогда меня не кончила… Я ить потом видел: как прыгнет метров на двадцать… да-а, а что ты думаешь… так и раскроит человека надвое. Ну дак вот, я уж так немного соображать стал, а рядом лестница пожарная – и полез по ней. Хреновина эта, понятно, за мной. В общем, долез до крыши, она тоже начала залезать, а я её и скинул. Скинул, смотрю вниз, а та-ам… ё-моё… полный двор этих гадин, места живого нет. Ну уж тут, ясно дело, матери твоей и думать нечего… к-хм… да… бесполезно… А вот о себе подумать надо было. Ну, да ты же помнишь, Максим Алексаныч из тридцать седьмой себе на чердаке мастерскую устроил? Я, значит, бы-ыстрей-быстрей, кувалду беру, бегом к этой лестнице и давай штыри выколачивать. Отколотил их, лестницу оттолкнул: дом-то старый, скобы сразу поотлетали. Ну, думаю, теперь не залезут. Возвращаюсь в мастерскую, а там ты уже сидишь, дверь из подъезда разными шкафами закидал – герой. Да, Яшка, кто там кричал-то? Крысы, что ль, сожрали кого? Соседа, говоришь? Ты бы пошел, поморил их, а то ведь житья не дадут.
Яков взял баллон и вышел в коридор. Коридор был общий, с низким крошащимся потолком. Когда идёшь, постоянно задеваешь головой керосиновые фонари. Керосин подавался по тонким резиновым трубкам. В некоторых местах, где земля обсы?палась больше, они были видны.
Кое-где трубки давали течь, и керосин лёгкими пахучими каплями сочился на землю. Люди подставляли тазы, бидоны и жгли его в жилищах.
Квартиры лепились одна к другой – норы три на три метра. В иных уж и стен не было: сходят люди на базар, купят какую-нибудь тряпку, повесят вместо занавески – и живут. Со стороны коридора тоже занавески, куда хочешь, туда и входи, хотя брать, конечно, нечего – третий ярус ведь, шантрапа… Если у кого и есть что в городе, то пониже. Там почти у всех двери, и квартира на квартиру похожа, а начиная с сорок пятого яруса вообще вход по особому разрешению.
«Ох, душно!» – как стон откуда-то сверху, и понять трудно, то ли и вправду кто-то вздохнул, то ли показалось, то ли крыса под потолком прошелестела. Яков открыл вентиль у баллона и закинул его к соседу за занавеску, где шуршала, копошилась, чавкала душная серая масса. Яков представил, что будет через секунду: баллон, подскакивая и оставляя за собой бурый газовый шлейф, покатится по полу. Крысы неохотно будут уступать ему место, кто-нибудь попробует укусить, но через мгновенье все забьются в конвульсиях, раздуваясь на глазах…
– Ну чё, заморил крысюк? – спросил появившийся откуда-то сбоку дядя Сеня.
– Не видишь, что ли? Заморил, понятно.
– Ну ладно, Яшка. Хоронить мы будем – кому здесь чего надо? Свиньи стали – не люди. Бери лопаты… Помнишь, как Лидку-то хоронили?
…Милиционер был пожилой, полный, с тяжёлыми грязными морщинами.
– В общем, так, – сказал он и поковырял в зубах, – квартиры выбирайте, какие хотите, талоны у всех на руках, раздатка на пятом ярусе. Если что, наше отделение в пятьдесят третьей. – И ушёл.
– Ну че, дядь Сень, где располагаться будем?
– Да здесь и будем. Мы ж не двужильные. Куда всё это тащить? – махнул он на потрескавшиеся кровати, стулья и стол.
– К-хм… Ты, дядь Сень, тащи пока, а я вон дамочке помогу.
– Ух ты, помощник, – засмеялся дядя Сеня, рассыпав по губам кривые жёлтые зубы. – Ну давай, давай уж.
Ничего тогда не предполагал Яков, а просто увидел в ещё сыром от непросохшей земли коридоре девушку, бьющуюся с кроватью – никак она не могла затащить в свою квартирку эту кривую колдобину. И что-то накатило на Яшку – не жалость, а просто сделалось внутри как-то пусто и холодно, словно ветер осенний там гулял. И потом – ощущение из раннего детства, как вкус давно забытого пирожного: запах комнаты, дома, и уже где-то далеко-далеко в душе он словно бы слышал тиканье часов. Только каких часов, и зачем это они вдруг застучали, не смогли б ответить ни Яков, ни душа. И припомнилось: стоит он на берегу пруда, и ветер тёплый-тёплый, небо над головой ласковое, деревья шелестят заветно, тайно. И в то же время кажется, что обрушится сейчас на тебя что-то большое. Но это не страшно, совсем не страшно – ощущение внутри, как перед прыжком в бездну: вот она, ужасная, но зовущая. И снова внутри тихо, а потом уже сильнее бьётся – часы или сердце, но удивительно точно отмеряет время, а пустота… эта пустота внутри всё сосёт, всё зовёт куда-то, но обрывается вдруг, и лишь одна леденящая тоска, и кровь стынет в жилах. Хочется крикнуть, но крик затухает в горле и вырывается наружу хрипом, как стон. Яков открывает рот, словно думая, что тоска, как птица, вылетит сейчас из глотки, устремившись в далёкий Воронеж, и никогда уж не возвратится, но во рту гуляет лишь аромат прелых листьев…
И вот тогда Яков заплакал – от этой страшной, разламывающей душу тоски, от безудержного ничего, готового в любую секунду навалиться и раздавить его. Плакал он нечасто, а уж по такому поводу… Но сдержал он слёзы, наскоро вытерся тыльной стороной ладони, подошёл к девушке и спросил сиплым срывающимся голосом:
– Вам помочь? – и прокашлялся.
– Помочь? Да-да, конечно.
Девушка встрепенулась, как птичка, – очень похожа на птичку: маленькая, худенькая, как ребёнок, и голос… голосочек тоже, как у ребёнка, – совсем ангельский, и платье ситцевое – совсем уж бледное, застиранное. По тем временам, когда люди ещё не очень обносились – непривычно заношенное. Но главное, что больше всего поразило Якова – глаза, очень большие, прямо-таки огромные глаза, коричневые и такие глубокие – Яков захлебнулся. И снова внутри заколотилось, забилось, и не убежать от этого… Он сгреб в охапку железную кровать, прижал её к себе, будто думал, что она возьмет на себя, вытянет боль. Ребристые бока кровати глубоко врезались в его тело.
– Куда? – язык ворочался тяжело, как в колоколе.
– Вот сюда. Здесь…
Яков поставил кровать и, почему-то совершенно без сил, повалился на неё. Пружины тяжело ухнули под его телом и, непривычные к такой тяжести, заворчали, глубоко осели. И провалилось всё вдруг, разом рухнуло куда-то…
Выбив окно, он взлетел над землей высоко-высоко, она стала видна вся – грязно-синий шар, и вдруг прямо под ним – огромный белый гриб ядерного взрыва… Но вот он снова на земле. Вокруг бескрайняя степь, заросшая травой. До горизонта ничего не видно, кроме этого поля, сплошь изрезанного железнодорожными путями, по которым ходят небольшие оранжевые тепловозы, толкающие перед собой платформы. На платформах – головы, огромные головы, они высматривают на полянках меж путями людей. Стреляют молниями из глаза, убивают. Не убивают только эфиопов. Это они, склонив головы, стоят на коленях, но в глазах их весёлые искорки, словно бы играют в рабов.
Меж ними ходят надсмотрщики: все ли эфиопы?
«Подними голову!» – и Яков поднимает искажённое страхом лицо. «Эфиоп», – доносится до него голос уходящего надсмотрщика, тихий, словно дыхание неведомого Воронежа, и настоящие эфиопы с удивлением смотрят на чужака. И смотрит Яков на свои руки – Господи, они и впрямь потемнели – это он стал эфиопом. «У каждого в душе…» – толкует Яков кому-то. «Что же, что же я хотел сказать? О чём?»
Мучительное пробуждение: сначала из видения, в какую-то гладкую тьму, и ничего вокруг не происходит, а хочется быстрей вырваться отсюда, но ничего не сделаешь, лишь рвётся наружу сердце. "У каждого в душе есть свой эфиоп, у каждого – свой. Он как смертный камень – первое и последнее воспоминание”.
Сон это был или не сон, только лежал Яков минуту-другую, не больше.
– Что с вами? Что с вами? – тормошила его за плечо девушка. Яков взял её за руку – хрупкая, маленькое ажурное сооруженьице. Девушка не испугалась, не вырвала руку.
– Как вас зовут? – после сна хоть и повисло что-то тяжёлым камнем, но ушла изнутри безжизненность.
– Лида.
– Лида, я иногда буду к вам заходить.
– Конечно, – тряхнула она головой и отчего-то заторопилась. – Заходите, конечно.
Зашел он к ней, конечно, в тот же день.