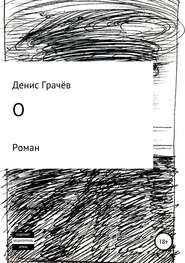По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воронеж
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Здравствуйте, Лида, – отодвинул он занавеску.
– Здравствуйте, Яков. Садитесь борщ есть.
– А вы как же?
– Да я потом… – Бог мой, от этой ненужной, совсем детской улыбки затрясло Якова, в давящий чугунный узел сплелось его горло, а в голове тренькал маленький колокольчик, где-то далеко тренькал, будто это дивный и недостижимый Воронеж подавал свой голос – звал куда-то или, наоборот, предостерегал от чего-то… А может, это маленький эфиоп с той стороны души влез на свою крошечную колоколенку и бьёт во все колокола…
Яков отхлебнул из кастрюли две ложки, но почувствовал, что не может, отдал ложку Лиде – «ешьте» – и увидел, как заработали, заколдовали над едой её тонкие птичьи лопатки. Яков протянул руки и коснулся её мягких, хрупких грудей – и тут же сгреб, стал мять, тискать Лиду, ощущая, как древняя, застарелая льдина, лежавшая внутри него, начала таять.
…Любовь их была тяжёлой, мучительной, как последний вздох перед смертью. Они встречались, о чём-то говорили, но всё невпопад, потому что знали, что ничего не могли дать друг другу, кроме этой скудной, жестокой любви. Якова часто тошнило, но после этого становилось вроде бы легче, он начинал ощущать свою прозрачность и стеснялся её, ходил по городу, затевал драки, приходил за полночь побитый, однако перестал материться. Жил в полусне – той, чужой жизнью. Иногда вставал ночью, чувствовал, что задыхается, стены плавали, как живые, но знал – это от любви – и шёл к Лиде, поднимал её с постели мятую, но удивительно свежую – и касался. Иногда проходило, иногда становилось тяжелей…
– Лида, Лида! Ведь некуда, совсем некуда, словно бы в пропасти на полпути к земле – как перед смертью. М-м… О чём это я? Лида, как же мы? Со вчерашнего дня вместо нормальной еды нам начали выдавать мясо тварей. А ведь они… они… эти твари съели мою мать… Ведь никто не работает, ведь ходят, как призраки… Все боятся только Зверюгу Ненасытную. Ты не думай, я не боюсь – ни Зверюгу, ни людей. Пока мы с тобой живём, внутри нас есть время…
И ведь откуда у Яшки слова брались? Раньше-то не мог парень двух слов связать… Однако тёмная любовь была – кто-то должен был из неё уйти, оба они устали, после каждой встречи становилось всё тяжелей. Всё путано, непонятно. Трудно, невозможно им было жить в этом мире со своей любовью, и мир отторгал их, чужеродных. Чувствовали они это, а без мира жить и вовсе не могли. Чего тут говорить – что случилось, то случилось…
После ухода Лиды ушел из Яшкиной души и эфиоп: не стало смертного камня, осталась смертная любовь – нелепая и путаная. Но последняя, и оттого много можно простить ей. И стало с тех пор вовсе неясно в голове Якова, словно бы что-то сломалось: это брошенный дом эфиопа ныл и скучал по ушедшему хозяину, и вместе с ним ушли остатки душевной лепоты, и ажурное её здание, лишенное фундамента, накренилось набок. Всё сместилось, и тяжело было найти нужное чувство в этом хаосе, а где-то в середине возвышался недвижный образ Лиды. С её смертью не пришло облегчение, а пришло понимание, что душа Якова – последнее, и она больше не может жить внутри: акварельный рисунок её, пусть и выполненный в тёмных тонах, кто-то закрасил тяжёлыми масляными красками, а потом, жестокий, привесил сюда странные металлические конструкции, обломки зеркал. Не мог понять теперешнего рисунка Яков, а только точно знал, что спасёт и прояснит всё лишь свет белый – Воронеж.
А на свет белый никто, кроме охотников, не попадает. Но где эти охотники, как их сыскать – об этом могла знать только шантрапа первоярусная. Успел он в своё время познакомиться с ней, а потому и раздумывать Яков не стал – решил идти на первый ярус. Зашёл домой только на всякий случай.
– Ты чего? – спросил дядя Сеня.
– Пошел свет белый глядеть, – ответил Яшка и положил в карман большой охотничий нож.
– Ну-ну… Мясо кушать будешь?
– Дай-ка я тебя обниму, дядя Сеня, – и прижал к себе его худое тело.
– Ну ты чё, чё ты? Выпил, что ли?
– Пока.
Яков вышел в коридор. Лампы светили успокоенно и ласково. Мягкий керосинный дух плавал в воздухе. Далеко, словно сквозь вату, доносился звук аккордеона. Корявая мелодия рвала ухо. Поблизости жарили мясо: слышалось шипенье сковородки, но запаха не чувствовалось – керосин забивал всё. Кричал ребенок – неестественно громким голосом – орал так, от нечего делать.
Яков гулко чихнул и пошел от этих запахов, звуков, хлопнул дверью лифта. Лифт со скрипом пополз вверх, к первому ярусу.
…Первым он увидел Мизгиря. Мизгирь, подросток лет шестнадцати, весь красный от мясистых прыщей, с тяжёлым тупым взглядом, медленно засунул руку в карман за ножом, но Яков опередил его – лягнул ногой под дых, и когда тот согнулся, ударил ещё раз – в лицо. Кровь тёмными струйками засочилась из носа Мизгиря, стала капать на рубаху, застывать тёмными кружочками на её светлом полотне.
– Я пришел с миром, Мизгирь, – зло сказал Яков. – С миром, – повторил он. – Как мне найти охотников?
– Чё?
– Охотников как найти?
– Я откуда знаю? – огрызнулся Мизгирь, но по голосу чувствовалось – не злится. – К Ерёме в сто сорок седьмую зайди.
– Не обижайся. Жизнь такая, – уже мягче сказал Яков и пошел по узкому коридору. Квартиры, как и везде, были похожи на ячейки в улье – одна к одной. На грязных тряпках, едва до половины закрывающих вход, дешёвой краской намалёваны номера.
– Тебе чего от охотников надо? – это прямо из-под носа Якова из квартиры вышел мужик. Росту огромного, сам здоровый, башкой под потолок упирается, бородища вокруг лица серая от пыли, грязнущая, а лицо хитрое-хитрое и словно бы улыбается: искорки в глазах бегают, и нет в них ничего злого. Словом, ладное лицо. Яков и нож не стал в кармане нашаривать…
– Если с охотниками наверх – ни-ни! Проверка паспортов при входе-выходе, на капэпэ охрана десять человек – сверху донизу… Ни-ни!
– Как же мне без света белого можно, Еремей? Ведь подохну ж я здесь! Ты видишь эти страшные стены, Еремей?
Когда-то в молодости увидел Еремей сон и пережил во сне великую любовь. Любил он там девушку, которую видел как-то раз случайно и никогда больше не вспоминал. Та девушка из сна писала ему из Воронежа удивительно нежные и чистые письма. Не помнил Еремей, о чём они были, но осталось в душе радостное и восторженное ощущение счастья, весёлости душевной. Встал Еремей с постели совсем не тем, кем лёг на неё восемь часов назад. Говорил он сам, что с тех пор тоска свила в душе его липкое и надёжное гнездо своё и год от года всё жирела, а сон тот не возвращался. Хитрющая тоска насылала временами другие сны про любовь, но что они значили по сравнению с тем, первым? Сразу же забывались, да Еремей и сам гнал их подальше, чтобы не замутить своего далёкого счастья. Нельзя сказать, чтобы он перестал материться или отошёл от своей буйной компании, однако первые дни жил он сонно и мёртво: его о чём-то спрашивали, он что-то отвечал… Потом, конечно, рассосалось немного, но тоска уже приросла к глазам, и ветвистые корни её были видны в зрачках. «Вы смотрите, какие глазки у нашего Еремея, – сказал тогда их главарь. – Как у девочки – щас заплачет». Еремей взял дубину да и сломал главарю шею, а вышел тот из больницы… какой уж он главарь – калека, прости Господи.
И нечаянно, как-то вдруг рассказал об этом Еремей. Подумалось тогда Якову: вот оно, то последнее слово, что хотела услышать душа его, и ничего теперь не надо – идти и идти только к Воронежу, к заветному городу…
– Ну, айда, – сказал, немного помолчав, Еремей.
Пошли они по липкому, строгому, как дуло, коридору. Где-то далеко готовилась для него пуля – может, не только для него, а для всех эфиопов, чтобы перестали они возмущать затхлое болотце души человечьей. И эфиопы в смутной тревоге собирали пожитки: может, хотели лететь на свет белый с Яковом, может, просто уходить от той страшной пули, которая далеко-далеко дожидается часа свершить над ними своё чёрное дело. Ох, доля чёрная – дело кручинное!..
«Скорей бы!» – слышится вздох. Кто ж это такой маленький да хитрый управляет движением стен? Или это стоны умирающего Воронежа прошли сквозь земную твердь и всколыхнули тугой и удушливый подземельный воздух?
– Садись, паря, – сказал Еремей, открывая дверь лифта, внутри которого, как в желудке, – тихо и сыро. Лишь одинокая потерянная лампочка зачем-то сеет по этой гладкой темноте свой худой и прозрачный свет. Яков вошёл. Стенки лифта были сетчатыми – металлическая сетка, натянутая на каркас, – сквозь неё всё видно: и тонкие, как свищ, норы гладких мокриц, и распластавшихся на стене грязно-белых бабочек и мотыльков, и, иной раз, нежилую крысиную нору, гнилой пастью смотрящую прямо в глаза. И всё это разом понеслось вверх – пришёл в движение лифт. И почти сразу остановился – Еремей нажал «Стоп». В лицо Якову смотрела огромная крысиная нора. Трудно было представить, что? за крысы здесь водились: величиной с большую собаку – не меньше. Стенки норы были шершавыми и уже несколько пообкрошились.
– Нежилая, – шёпотом выдохнул Яков.
– Да, нежилая, – ответил Еремей и стал отдирать сетку. Она натруженно хрустнула и с кряхтеньем подалась. Нора прямо в лицо дохну?ла утробной сыростью.
– Никто в неё до тебя не лазил, но видишь – просторная. Бог даст, дня через три будешь наверху. Найдёшь свой Воронеж… – добавил Еремей уже тише.
– Воронежа своего мне уж не найти. Заиметь бы мысль ясную, да сердце моё грустное и потерянное в покой привести.
– Ну что ж, залезай, паря. Всего тебе.
Дыра была: на колени встать и голову согнуть – как раз уместишься. Яков сел, согнулся, на Еремея только глаза из тьмы порскают.
– До свиданья, Еремей. Тебе тоже всего. Вернусь, конечно…
Лифт поехал, лишь трос заколыхался пред Яковом, да дно лифта прощальным деревянным и некрашеным платочком колыхнулось ему сверху. Запахло розами – мягкий, пряный запах пруда.
– Прощайте! – крикнул Яков стенам, и стены ответили молчанием, не стали липкими пальцами хватать его за ноги, не стали кидать в лицо землю. Только эхо – обломок звука – как раненая птица, заметалось по шахте лифта и вскоре затухло – умерло. Яков встал на четвереньки и пополз. Узкий крысиный коридор ничем не па?хнул – только пылью; букашки без боязни летали, ползали по стенам, иногда Яков лбом срывал липкую тягучую паутину, и недовольный паук шустро ускользал в невидимую нору. Встречались белые грудастые животные, похожие на летучих мышей, – одни из тварей, пришедших на землю, но безобидные.
Часа через три захотелось пить. Голова стала полна песка – каждую минуту приходилось стряхивать, чтобы не сыпался в глаза. И дальше что ни минута, то тяжелее: горло пересохло, и слюны уж нет, чтоб сглотнуть, в голове кровь бьёт в колокола, в глазах – мутные круги. Яков сел, навалился спиной к стене, закрыл глаза… Внутри пусто: никаких мыслей, никаких желаний. Слышно, как где-то далеко ноет горло, да язык во рту ощущаешь: сухой, шершавый лежит, непривычный чужой. И тут, как щелчок, – отключили Якова.
Идет он в театр. У дверей толпа, все спрашивают лишний билетик. Он улыбается – нет, мол. Заходит в зал, оглядывается, а в зале-то он один. Подошедший к нему администратор говорит: так и так, извините – билеты-то, конечно, все проданы, только вот никто не пришел почему-то. Достаёт из кармана картинки, раскладывает перед Яковом. Вот это, говорит, небо, это земля, а вот это, говорит, наша жизнь. «Какой же это спектакль?» – спрашивает Яков. И тут администратор начинает смеяться – хохочет – и вдруг в паука превращается и залезает Якову в рот, а потом в желудок. «Буду я здесь жить сто лет», – говорит. «Нет, не будешь», – отвечает Яков и кашляет. И с кашлем паук изо рта вылетает. Тут раздаются аплодисменты: оказывается, он стоит на сцене, а в зале полно зрителей. Администратор стоит рядом – улыбается, кланяется. Только лица у зрителей странные: все смотрят на Якова, а никаких чувств на них и нет – просто сидят и хлопают, не моргнув и не улыбнувшись.
И вдруг начинают, как воск, оплывать – оплыли и превратились в каменных баб: стоят посреди степи, а театра уж никакого и нет. И высоко-высоко над головой – ослепительно синее небо, и с небес, как лист бумаги, падает белым свёртком раненая чайка: всё ближе, ближе, вот уже над головой…
Тело ноет, горло скребёт. Стряхнул остатки сна – и вперёд. Ладони в кровь сбиты: как после извержения вулкана – в красной лаве чёрная земля. А стены сходятся, давят кольцом. Перед глазами сиреневые круги. Где-то глубоко в мозгу пролетела Лида – с тонкими трепетными крылышками…
Стены сжимали в земляном кулаке Якова. Он лёг и пополз.
Открыл рот: воздух был влажный – в рот сразу же набилась пыль, мешала думать. Мелькнула крыса. Яков вытащил нож и, держа вытянутой руку с ножом, полз – неудобно, но надёжно. Земля, мягкая, как хлеб, хватала к себе сладкими тяжами, заволакивала тело. Сыпалось в карманы, сверху давило, прижимало – не пролезешь. А остановишься – срастёшься с землей, смешаешься… Время – вылившаяся ртуть, уж не собрать в целое – раскатилось шариками по поверхности. Ничего уж не сделать, не поймёшь, час ли, два ли или уже целые сутки ползёшь – время слагается лишь из суммы движения рук и ног по кишке норы. Ползёт медленно, неощутимо земля, полумёртвый от однообразия глаз ни на чём не задерживается – дремлет. Не понять, бодрствует Яков или во сне научился работать руками и ногами.
Выскочившую крысу он спокойно – ничего не случилось – задушил. Да та и не сопротивлялась: вяло рванулась и стихла, и Яков, отрезав её голову, выпил кровь. Из желудка повеяло мягким и душным – как прелые листья, в голове прояснилось, и он провалился с глубокую чёрную яму. В черноте её плавали обломки воспоминаний: безголовый эфиоп гнал через бездну, оставляя бархатный кровавый шлейф: улыбалась, прямо-таки каталась со смеху убитая крыса; от розовощёкой Лиды отламывались куски и летели в темноту; большой слизистый глаз показывался то здесь, то чуть выше – наблюдал: скорей бы! Завертелось, забилось – и снова перед глазами тёплое земляное нутро: остановиться бы, расслабиться да так тут и остаться. Нора расширилась, можно было б продвигаться на четвереньках, но нет сил встать: ползёт, а земля высокой кровлей нависает над ним. Из ходов сверху за Яковом наблюдают остроносые морды с блестящими бусинками глаз – любопытствуют, скоро ли… А земля уж высоко над головой – не нора – пещера, по стенам прозрачной плёнкой стекает вода. Яков приложил лицо и долго сосал мокрую землю. Подняв лицо, он увидел перед собой мириады тёмных крысиных тел: они чего-то ждали.
«Что вы хотите? – спросил Яков. – Душу мою давно съели, а тело у меня сухое и несладкое». И, словно в противовес сказанному, зашевелилось что-то в душе Якова, и понял он: созрели те семена, что росли долго, ждали срока своего. «Настала пора, пришел час мой…» – вспыхнула последняя мысль Якова. Скорей бы!.. И тут почувствовал он, что начинает изменяться: лицо стало вытягиваться, внутри что-то больно обрывалось, рассыпа?лось на части. Почувствовал он: неживой дом эфиопа взлетает и уже где-то в небывалых далях рассеивается, обращается в пыль – тёмный мшелый камень, основание душевное, незаметное, как воздух, державшее душу его, сущность его человеческую, праматерь всех эфиопов, хранящее ауру его любви и древний пруд наполняющее – основание душевное вдруг оказалось вырвано страшной звериной силой и отброшено за пределы тесного телесного предела Якова. И встала пред крысами небольшая приземистая тварь – остроносая, с плотно пригнанными друг к другу пластинами. Зверюга Ненасытная – первая и последняя, необузданная и незакованная – стояла перед ними.