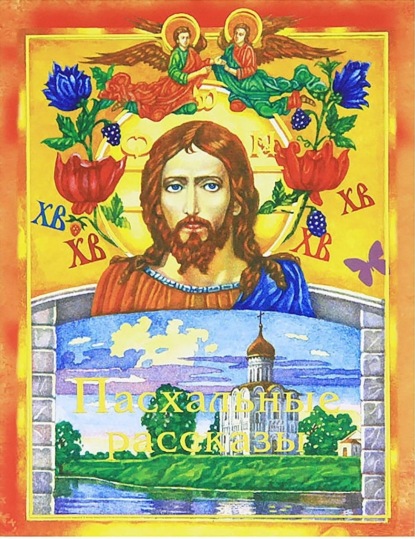По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пасхальные рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так было и на этот раз. Дьяк Евтихий вынес столик и поставил его на возвышенном месте около передних рядов молящихся, а на столике стоял таз. Вышел и о. Христофор из алтаря, и в правой руке его был крест.
Но не подошел он к столику и не начал благословлять крестом и христосоваться. Он остался поодаль. Лицо его было сосредоточенно и серьезно, и глаза горели каким-то огненным блеском, и он заговорил.
Прихожане всегда любили слушать, когда о. Христофор говорил в церкви. Случалось им слушать других проповедников в городе и в других селениях. Но их слушали они из уважения, мало понимая то, что они говорили.
Совсем другое были для них речи о. Христофора. Он говорил с ними попросту, так, как будто это была не проповедь, а самый обыкновенный разговор, только не с одним человеком, а с целым приходом. Не часто приходилось слушать его прихожанам. О. Христофор хотел, чтобы ценили его слово, и потому говорил в церкви только тогда, когда был особый для того повод. Случится что важное на селе, и все ходят с понуренными головами, а другие толкуют вкривь и вкось, и столько бывает мнений, сколько хат, а иной раз и в хате муж с женой разойдутся во взглядах. А в воскресенье все придут в церковь и ждут, что скажет о. Христофор. А уж он подумал за всех и так скажет, что всем станет ясно, и тогда все начинают думать одинаково.
Таков был о. Христофор. За это его и уважали, именно за то, что он умел думать за всех и толково думал, так что уж можно было на его думы положиться.
Заговорил и теперь о. Христофор:
– Вот, – сказал он, – православные люди, небывалое событие произошло на нашем селе: в Святую ночь Христова Воскресения, когда на земле всякая тварь радуется и славит Бога, от неведомого источника загорелась и, должно быть, теперь сгорела до основания хата Мирона Очкура. А кто же такой Мирон Очкур? Разве мы его не знаем? Разве не на наших глазах он был когда-то хорошим хозяином, а посетило его несчастье – пали от болезни две пары волов и три коровы, да в тот же год посетил его неурожай, и оскудело его хозяйство, и стал он беднейший между нами? А может быть, Мирон Очкур великий грешник? Не чтит Господа, не соблюдает Его заповедей, не милосерд к ближним, гневлив? Уж если Господь наслал на него такую кару в эту великую ночь, то, должно быть, он самый последний грешник из всех чад Божиих. Но мы же знаем Мирона Очкура, вот он стоит среди нас. Не святой, конечно, но и не грешнее каждого из нас. Потому я говорю: справедливый Господь не мог в нынешнюю ночь послать ему кару. А значит, то была не кара, а знамение, свидетельство его благоволения. Огнем захотел Господь очистить его от бедности. Поднять его от горя к радости, восстановить его захиревшее хозяйство и – слушайте же меня, чада мои – нас всех избрал Он орудием Своей воли. Вот сгорела хата Мирона.
Возлюбим же мы Мирона тою братской любовью, которая в нынешний день соединяет все человечество, и пусть каждый положит в сей сосуд из своего достатка, сколько ему по силам.
Богатый больше, а бедный – хотя бы и самую малость! А потом, земляки, как отойдут праздничные дни, соберемся и общими силами на месте сгоревшей хаты Мирона построим для него и для его семьи новую, и будет у Мирона и жилье и достаток, и восстановится его хозяйство, и возблагодарит он за это Бога. Вот я, старший среди вас и пастырь ваш – Бог не обидел меня достатком – кладу по мере своих средств и, кроме того, дарю Мирону корову и теленка из своего малого стада… Христос воскресе, православные!..
IV
И начало осуществляться то, что вдохновенно предсказал о. Христофор. Трогательное волнение охватило всех присутствовавших в церкви. Все полезли в карманы, кто за голенище сапога, а кто за пазуху. Бабы развязывали узелки на углах своих платков и доставали оттуда медные монеты, припрятанные на покупку пряников для детей и семечек для собственного развлечения. Подходили поочередно, неторопливо к о. Христофору, целовали крест и христосовались с ним, а потом нагибались в ту сторону, где стоял столик, и каждый клал в церковный таз свою лепту.
Звенели медяки, сдержанно позвякивала серебряная монета, но случалось, что какой-нибудь богатый хуторянин раскошеливался и опускал в таз многозначительную цветную бумажку, да еще потом обращался к батюшке и говорил:
– А я ему еще кабанца молодого дарю, пускай придет за ним на хутор.
У другого нашелся молодой теленок, у третьего – двухгодовалый жеребенок.
Слушал все это о. Христофор, кивал головой и улыбался и всем отвечал: «Хорошо, хорошо, Охрим, либо Степан, спасибо тебе, уж пришлем, не забудем».
А Мирон стоял неподалеку на своем месте и слушал, растерянный и потрясенный. Что-то такое совершается вокруг него. Теперь уж, должно быть, от хаты его остался один пепел, а тут каким-то чудом вырастает новое его благосостояние. Все эти кабанцы, телята, жеребята, также и все то, что в виде заметной уже кучи возвышается в церковном тазу, – все это посылает Бог не кому другому, как ему. И казалось Мирону, что это не жизнь, а приснился ему какой-то необъяснимый и чудесный сон.
Когда кончилось целование креста и христосование батюшки, о. Христофор велел церковному старосте вместе с другими прихожанами подсчитать собранное, а сам вернулся в алтарь и сейчас же, без перерыва начал служить обедню.
Быстро и как-то радостно, почти веселым голосом читал он молитвы и ектении, сознательно торопясь, чтобы отпустить поскорее прихожан, которых так неожиданно задержал пожар, а после обедни вышел к народу и объявил, что собрано Мироновой семье что-то больше трех сотен.
– И вот теперь никто не должен сомневаться, что не кару Бог послал Мирону, а свидетельство Своего благоволения. Помните же, земляки, на четвертый день праздника соберемся и будем строить Мироновой семье хату.
Когда же народ стал расходиться, о. Христофор подозвал Мирона и сказал ему:
– Возьми свою жену Елену и ребят и иди ко мне в дом – будем вместе разговляться.
Мирон хотел было возразить, что и так, мол, благодарен батюшке и не смеет утруждать его, а разговеется где-нибудь у родни, но о. Христофор уже повернулся и ушел в алтарь, и пришлось Мирону и Олене идти к нему. Не мог он не исполнить желания о. Христофора.
А в доме о. Христофора в это время уже были зажжены яркие огни. В большой комнате был накрыт пасхальный стол. Матушка выстояла в церкви только утреню, а от обедни должна была уйти, так как нужно было все приготовить. А это было не так просто, как может показаться. У о. Христофора было довольно большое хозяйство. Он и землю засевал, и коров держал, и птичню, и при всех этих статьях, кроме работников и работниц по дому, были особые люди.
Отдельная кухня стояла во дворе, и там варилась пища для рабочих. Но в эту ночь в отдельной кухне вовсе не разводился огонь.
О. Христофор, в обычное время не чуждый мирской суеты, – он не только был пастырем своего духовного стада, но и наживал понемногу добро – в этот день хотел быть последовательным и проводить в жизнь те слова, которые он громогласно произносил в церкви, и в доме его в пасхальную ночь не делалось разницы между «чадами и домочадцами». За одним столом, накрытым в большой комнате его квартиры, украшенным зеленью и цветами, садился он сам и матушка, и все служащие при его хозяйстве.
Кучер Антип ради праздника смазывал свои сапоги чистым дегтем, птичница Матрена повязывала свою голову новым очипком, а доильщица коров, которых у о. Христофора было малое стадо с дюжину голов, никак не могла отмыться от навозного запаха, который впитывала в себя ежедневно при исполнении своих обязанностей.
И матушка, которая не особенно покровительствовала этому христианскому обычаю, а только делала уступку о. Христофору, должна была выносить все эти разнообразные ароматы у себя за столом.
Но она выносила их мужественно. Ведь это был всего только один день в году, когда о. Христофор настаивал, чтобы было по его, остальные же триста шестьдесят четыре дня все в доме делалось, как хотела матушка.
Поэтому, когда о. Христофор прислал из церкви сторожа Клима сказать ей, что за столом еще прибавится семейство Мирона Очкура, она приняла эту весть со стоическим терпением и только велела раздвинуть стол и вставить в него еще одну доску.
И вот вернулся из церкви о. Христофор. Все служащие ждали его прихода в сенях, так как при матушке не смели войти в комнаты. И разом в доме как будто прибавилось света. О. Христофор со всеми перехристосовался и пригласил всех за стол.
– А где же Мирон и Елена? – спросил он, так как не видел погорельцев в числе присутствующих.
Но их никто не видел, и неизвестно было их местопребывание. Тогда отправились во двор и нашли их тихо и смиренно сидящими на завалинке.
Робко ступая и оглядываясь, вошли они в большую, ярко освещенную комнату. Лица у них были какие-то смутные, точно они испытывали не действительность, а какую-то сказку. Мирону казалось, что сон все еще продолжается. Как-то слишком уж много заставила его судьба пережить в одну эту ночь.
И, когда все уселись за стол, большая комната в церковном доме представляла необыкновенное зрелище. Вокруг огромного стола, уставленного всевозможными пасхальными яствами, сидели люди различных положений, в разнообразных одеждах.
И о. Христофор от души, а матушка, хотя и скрепя сердце, но все же с видом искренней любезности угощали их, предлагали им яства и пития. О. Христофор собственноручно наливал водку в рюмки, чокался со своими работниками и пил вместе с ними.
Пил и Мирон, сам еще не понимая вполне, пьет ли он чару, поднесенную ему самим о. Христофором, с постигшего его горя, или по случаю предстоящей радости.
После розговен о. Христофор, желая довести до конца начатое дело, отвел Мирону и его семье небольшое помещение, где в самом скором времени должны были высиживать цыплят его куры. Теперь оно было еще свободно, и Мирон вместе с Оленой и тремя ребятами временно поселился в нем.
V
В первые три дня праздника о. Христофор был занят обходом и объездом своих прихожан. В самом селе ему вместе с дьячком Евтихием пришлось ходить два дня. Село было большое, и каждый прихожанин желал видеть у себя духовных лиц, и в один день обойти его не было возможности.
Посещение хат собственно было краткое. О. Христофор в эпитрахили и с крестом в руке входил в дом, а вслед за ним и Евтихий. Так как обход происходил поочередно, из хаты в хату, то хозяева ждали и были все в сборе. Пели пасхальный тропарь, о. Христофор давал всем благословение и поздравлял с праздником, и этим духовная часть дела кончалась.
После этого хозяйка уходила в кладовую, либо амбар, либо погреб и выносила оттуда заранее заготовленное то, что было в ее хозяйстве лучшим, что не стыдно было поднести духовенству. Кусок соленого сала, колбасы либо что-нибудь хлебное. За воротами стоял воз, запряженный парой батюшкиных коней, которыми управлял сторож Клим. В этот воз и складывали дары.
Но в иных домах, где были особенное тороватые хозяева, приходилось и посидеть, а иногда и засидеться. Батюшку и Евтихия усаживали за стол и заставляли «сделать честь». Кроме чести, надо же было и питаться, так как в течение целого дня домой о. Христофор не заходил.
Так было в первый и второй день. Набиралась изрядная гора всякого рода приношений, которые делила между о. Христофором и дьяком Евтихием уже сама матушка. Дележка была, однако, неравномерная, а по достоинству, благодаря чему дьяк Евтихий получал лишь четвертую часть и был доволен своей участью, ибо он не более как дьячок. Разумеется, кое-что тут перепадало и сторожу Климу.
К вечеру второго дня о. Христофор очень уставал. После двухдневной ходьбы у него болели ноги и ломило спину. Но это не мешало ему на третий день рано утром отправляться на хутора. Хутора входили в состав прихода, и хуторяне считали приезд духовенства особенным, исключительным праздником.
Тут о. Христофору не приходилось ходить по хатам, так как они были разбросаны на значительном пространстве, отделенные одна от другой обширными огородами и картофельными полями.
Избиралась какая-нибудь определенная хата, туда собирались все хуторяне, здесь служилось молебствие, а затем выносили во двор столы, накрывали белыми скатертями с вышитыми краями, и происходило пиршество. И за этим пиршеством на долю духовных лиц обычно выпадало гораздо больше даров, чем за целые два дня хождения по деревенским хатам.
Хуторяне были народ тороватый и любили одарить свое духовенство. И расщедривались они не каким-нибудь куском сала либо паляницы – тут сыпались в духовную казну целые мешки жита, пшеницы, проса, чего у кого было больше, и все это собиралось на несколько телег, и на другой день сами хуторяне привозили в церковный дом.
Но на этот раз у о. Христофора была еще и другая забота. Он отлично помнил все торжественные обещания, данные хуторянами в церкви для семьи Мирона, и теперь напомнил о них хуторянам. И каждый из хуторян подтвердил.
Пиршество затянулось до солнечного заката, и о. Христофор с дьячком Евтихием вернулись домой, когда уже спускались сумерки.
Всегда трезвый и осторожный в выборе пищи и питья, о. Христофор для этого дня, один раз в году, делал некоторое исключение. Не было никакой возможности среди хуторян соблюсти умеренность, так они умели упрашивать и так были неотступны в своих просьбах. И так как от большей или меньшей уступчивости прямо зависело количество даров, то о. Христофору приходилось отступаться от своих принципов. Поэтому он вернулся домой с несколько затуманенной головой и, как человек непривычный, сейчас же захотел спать, лег в постель и в эту длинную ночь, начавшуюся с семи часов вечера, выспался и отдохнул за все три дня.