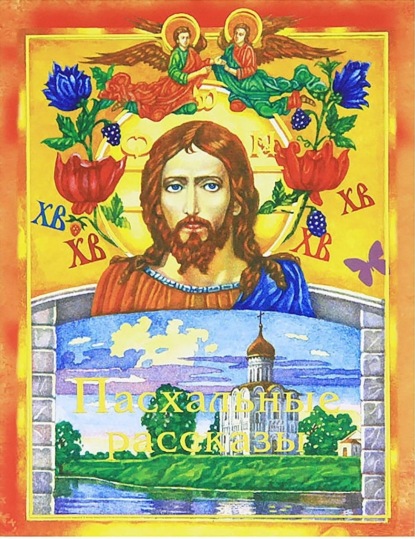По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пасхальные рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он узнал, что я русский, и почему-то в его расширенных глазах появилось какое-то радостное сияние, и он долго и основательно объяснял мне, почему он рад знакомству со мною. У него была своего рода историческая теория. Он считал, что народы на расстоянии тысячелетий постоянно сменяют друг друга и что в самом непродолжительном времени должна наступить очередь русского народа, когда он станет впереди других. Русские, по его мнению, молодой народ, в котором скрываются поразительные способности. Он еще не проявил их, но проявит непременно.
Дальше я узнал, что он отставной военный, в чине, который приблизительно соответствовал нашему майору, что фамилия его Спайль, и что у него есть жена и дочь двадцати двух лет.
Я открыл ему свое имя и объяснил, почему живу в Лондоне и как скучаю. Это последнее мое признание было, может быть, и напрасно. Мой майор ухватился за него и сейчас же начал самым горячим образом предлагать мне развлечение от скуки в виде знакомства с его семейством.
«Жена и дочь, – подумал я, – мистрис Спайль и мисс Спайль! Едва ли это будет действительное лекарство от моей скуки». Я представил себе тихое буржуазное семейство, живущее на пенсию, получаемую майором, и не могу сказать, чтобы меня туда потянуло.
Но тут оказалось, что майор вовсе не довольствуется своей скромной пенсией и, будучи человеком еще сильным и здоровым, работает в какой-то типографии в самом Лондоне. Дочь же его, мисс Эмили Спайль, занимается переводами с немецкого языка и помещает их в журналах.
– Только вы не подумайте, что она суфражистка! Избави Бог! Она этих крайних мнений не разделяет.
Я не мог не пойти навстречу столь любезному приглашению и выразил полное удовольствие. Кстати, хотя я и бывал уже за границей и даже в Лондоне, но никогда не случалось мне заглядывать во внутренний семейный быт англичан. Это был случай пополнить пробел в моем образовании.
Мы условились с мистером Спайлем, что я посещу его семейство в ближайшее воскресенье, когда и он будет дома, в пять часов дня.
Когда мы расстались, я, признаюсь, пожалел о своей слабости. К чему было вступать в разговор? Можно было ограничиться обменом простых любезностей. Теперь надо идти куда-то в неизвестный дом и тянуть канитель знакомства. Мне представилось, что скука, которая и без того удручает меня, теперь еще увеличится. «Майор, его жена и дочь», – мелькало у меня в голове, и это трио рисовалось мне каким-то символом скуки.
Хуже всего было то, что я даже не мог по русскому способу просто-напросто увильнуть от знакомства. Просто не прийти в назначенный день и час, предоставить майору, его жене и дочери сколько угодно умозаключать из этого о русской невоспитанности. Майор неизменно попадался мне в вагоне – у него была ночная работа, и он возвращался домой только утром. Типография печатала газету, и он держал ночные корректуры. Надо было изумляться трудоспособности этого почтенного пятидесятипятилетнего человека.
В субботу он обязательно напомнил мне о моем обещании и прибавил, что его семейство с нетерпением ожидает меня и очень интересуется знакомством с русским, да еще москвичом.
Наступило и воскресенье. В этот день мне незачем был ехать в предместье, так как на заводе работы не было. Но и в Лондоне тоже было делать нечего. Все было закрыто, и город производил такое впечатление, как будто его только что, как Помпею, вырыли из-под пепла. В четыре часа я попытался сесть в вагон, но это было не так легко. Весь Лондон стремился за город, и места всюду брались с бою.
Стоял чудный весенний день, и там, за городом, действительно было хорошо. Но кое-как я отыскал себе место и пустился в путь. Майора, конечно, в соседстве со мною не было: он пользовался воскресным отдыхом.
Случайно я пришел к маленькому трехэтажному домику, когда было без одной минуты пять часов. Ну, право же, я об этом не старался.
– Это великолепно! – услышал я над головой знакомый, несколько скрипучий, но добродушный голос мистера Спайля. – Это великолепно! Если бы все русские были так аккуратны…
Я поднял голову. В открытом окне второго этажа я увидел фигуру мистера Спайля. Он держал в руке карманные часы и пальцем другой руки тыкал в циферблат:
– Без одной минуты пять часов… Вот сюда, в эту дверь. Я сейчас вам помогу.
Он скрылся, а через полминуты дверь отворилась, и меня приветствовал сам майор.
Меня пригласили в миниатюрный салон, где было убранство не совсем казенное. Широкий диван был закрыт очень потертым, но все же персидским ковром, и на стене тоже был персидский ковер. На окнах стояли цветы. В довольно большой железной клетке прыгали маленькие попугаи.
Дамы были здесь. Мистрис Спайль – высокая, сухощавая, очень сохранившаяся дама лет сорока пяти, улыбалась мне со всем радушием, на какое только была способна, и показывала свои здоровые, слишком крупные зубы.
Мисс Спайль оказалась роста невысокого, чуть пониже даже среднего, блондинка с черными бровями, очень миловидная и приветливая.
Дамы были в восторге, когда я заговорил по-английски, – они почему-то воображали, что я непременно должен на их языке лапти плести, а майор позабыл отрекомендовать меня с этой стороны.
Само собой разумеется, что начался бесконечный разговор о России. На меня посыпались расспросы. Любопытство их касалось московского Кремля и зернистой икры, русской архитектуры и казенной водки.
Наконец, когда подали огромные чашки, наполненные крепчайшим чаем, разговор перешел на мою особу: где я учился, моя специальность, где я служу, сколько мне лет, женат или холост, кто мой отец и т. д.
Я не видел никаких оснований отказать им в удовлетворении их любопытства. Стараясь одолеть бездонную чашку совершенно невероятной крепости чая, я рассказывал им о Москве, о России и о себе, а они слушали все это с таким глубоким вниманием, даже, как мне показалось, с умилением, как будто речь касалась священных для них предметов.
Так совершилось мое знакомство с семейством мистера Спайля.
II
На первый раз дело ограничилось формальным пятичасовым чаем. В половине седьмого я уже уехал в Лондон. Но с меня было взято слово, что в следующее воскресенье я проведу с ними целый день. Было названо какое-то очаровательное место в окрестностях, куда мы совершим экскурсию. Оказалось, что англичане не только в Швейцарии и Италии но и у себя дома совершают экскурсии.
Сказать, чтобы семейство Спайля очаровало меня и чтобы в наступившее воскресенье меня потянуло к ним, я не могу. Несомненно, люди они были добродушные, а мисс Эмили даже была мила, и особенно мне понравились ее зубы – в меру крупные, ровные и прямо какой-то поразительной белизны. Ее в общем миловидное, но довольно обыкновенное лицо делали интересным черные брови. В самом деле они были очень красивы при светлых, слегка золотистых волосах и голубовато-серых глазах.
Но всего этого было недостаточно, чтобы притянуть меня к себе.
Тем не менее я решил остаться верным не только своему слову, но и моей так неожиданно установленной репутации аккуратного, после того как я пришел ко Спайлям без одной минуты в пять часов.
Я поехал к ним и в полдень был уже в их маленьком коттедже с небольшим палисадничком, в котором уже расцвели вовсю нарциссы, издалека кричавшие о себе острым, слащавым ароматом.
Но перед путешествием мы побывали в столовой, такой же миниатюрной, как салон, и здесь приняли «легкий завтрак», состоявший из бифштексов, чрезвычайно сложного салата, сладкого омлета, фруктов и сыра. Затем началась экскурсия, сперва в трамвае, а потом пешком.
Местность была действительно очаровательная, и я нисколько не жалел о том, что поехал.
Страстной любительницей фотографии оказалась, к моему удивлению, не мисс Эмили, а мистрис Спайль. Ее маленький ручной сак был наполнен запасными катушками, и она истребляла их с невероятной быстротой. Решительно все оказывалось достойным запечатления – всякий пригород и всякое деревце и камень.
Мистер Спайль был плохим ходоком. Ноги у него были не особенно крепкие, и он часто присаживался для отдыха.
Мы же с мисс Эмили были неутомимы, ходили без остановки, болтали без умолку и успели отлично познакомиться. Она была интересна тем, что говорила не о себе. Она всю свою жизнь провела в Лондоне и его окрестностях. Путешествовать им не позволяли скромные средства мистера Спайля. Но зато она отлично знала жизнь того небольшого края, в котором прожила, и обладала способностью излагать свои наблюдения. Я слушал ее, как занимательно написанную книгу о нравах Лондона и его окрестностей. Зато и от меня потом потребовалось, чтобы я основательно познакомил ее с Россией.
– Вы интересуетесь Россией? – спросил я.
– О да. Если б я имела возможность, я непременно поехала бы в Россию, – ответила мисс Эмили.
– Что же вас туда привлекает?
– Но это страна Толстого. Он такой великий художник. В стране, где он мог собрать столько поразительно красочных наблюдений, должна быть очень интересная жизнь.
Я говорил о России все, что знал, и мисс Эмили поглощала мои слова. В пять часов мы где-то по пути пили молоко, причем мистер Спайль влил в свой стакан порядочную порцию коньяку, а к семи часам уже вернулись домой. На этот раз я остался обедать у Спайлей, а потом незаметно просидел до десяти часов.
Ну, а затем посещение Спайлей скоро вошло у меня в привычку. Завод я обыкновенно покидал часов в шесть, и было совершенно естественным делом завернуть по дороге в их коттедж.
Оказалось также очень удобным, чтобы я каждый день обедал у них. Они мне предложили, я попросил их назначить плату, и мистрис Спайль сделала это без малейших ужимок. Это было вполне справедливо. Она взяла бумагу и карандаш, произвела некоторые несложные выкладки, сказала мне цифру: ровно столько, сколько прибавится из-за меня к их бюджету. Это мне страшно понравилось, потому что никого не стесняло. Я стал обедать у них, и в десять часов мы вместе с мистером Спайлем уезжали: он – на свои ночные работы, я – спать.
Когда живешь на чужбине, в душе как-то обостряются воспоминания, выплывает на поверхность давно забытое, и начинаешь ценить такие переживания, которые на родине казались уже навсегда от тебя отошедшими.
Шел Великий пост. Помню, в Москве, живя в известном кругу, я совсем как-то не замечал его. Когда-то в детстве он играл в моей жизни большую роль. Я тогда веровал и постился, посещал церковные службы, предавался покаянию и говел. Но потом все это ушло из моей жизни, и пост ничем не отличался от всех других дней.
Тут вдруг все это вспомнилось. Я стал тосковать по давно забытому, и ярко рисовались мне картины, пережитые в детстве. Деревня, протяжный звон, сосредоточенные лица, сокрушенные взоры, покаянные слова, долгие службы с частыми усердными поклонами. По всей вероятности, это настроение отражалось в моих глазах, потому что дамы, с которыми я проводил большую часть времени, обратили на это внимание. Они спросили меня, о чем я тоскую. Неужели Англия так плоха, что не в состоянии заглушить во мне тоску по родине?
А для моей тоски это был выход. Я рассказал им о нашем посте и о связанных с ним обычаях. Я нашел внимательных слушательниц, и эти излияния облегчали меня. Подробнейшим образом, каждый день возвращаясь к этому предмету, я описывал перед ними все великопостные службы и долгое стояние во время «страстей» и особенно красочно рисовал обычаи седьмой недели, связанные с плащаницей.
Я познакомил их с особой психологией народа, так ярко переживающего ежегодно все горестные перипетии жизни Христа. И когда я дошел до пасхальной ночи, на меня, должно быть, снизошло истинное вдохновение. Я помню, что в эту минуту я поднялся, и голос мой зазвучал проникновенно. Я говорил о том, что в эту ночь, в миг, когда на церковной колокольне раздается пасхальный благовест, печаль сходит с лиц, и в глазах загорается радость. В церквах зажигаются огни, много огней, люди приходят со свечами и тоже зажигают их. Весь город, каждое селение расцвечивается радостными огнями.
– Вся Россия, подумайте, эта колоссальная страна с полуторастамиллионным населением, ликует с таким чувством, как будто действительно присутствует при Воскресении Христа. Торжественный звон колоколов всю ночь и весь день непрестанно. Праздник у всех в глазах и в душе. Забываются старые обиды, и вчерашние враги в этот день становятся друзьями. Все чувствуют себя братьями, и на каждом шагу раздаются братские поцелуи.