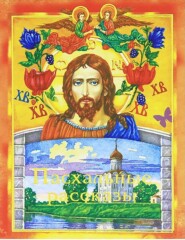По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Христов подарок. Рождественские истории для детей и взрослых
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Хочешь вечно жить, мотай на ус. Усов, правда, у тебя нет еще, но умишко есть. Живой умишко, бойкий, вот и соображай им, что питает разлюбезную тебе вечную жизнь. А?!
На это грозное «А?!» Федюшка быстро-испуганно кивнул головой, но все же сказал:
– Но ведь это… когда добро царило, человек бессмертен был? Значит, это добро питало бессмертие в человеке?
– И этот умишко я назвал живым и бойким! – раздосадованно прошелестело из змеиной пасти, и глаза змея при этом вылезли из орбит, увеличившись раз в пять, и быстро же вернулись назад.
– Да просто жалкий недоумок, – пророкотала своим обмораживающим голосом Смерть.
И у пупырчатого комка вдруг прорезался голос:
– Метлой ему по башке, а не вечную жизнь. Для кого ты стараешься, о великий Постратоис?
Башка змея почти вплотную приблизилась к Федюшкиному лицу, немигающие, без век, зенки уперлись в Федюшку обжигающим взглядом.
– Грош цена тому бессмертию, если оно так запросто у вас было отнято. Значит, и не было его, одни слова были, одни обещания, поди-ка теперь проверь, – зловещим шепотом прошипел змей, – да, прародительница Ева послушалась меня и уговорила мужа своего Адама, и они съели запретный плод! И вот всего-то за это вот, всего лишь за ослушание лишил их Бог – Творец бессмертия. Он, Бог, всегда такой, за проявление силы духа – наказывать. А что, скажи мне, есть ослушание, как не проявление силы духа? Когда утром ты варенье запретное жрал, разве не ощущал ты в себе, скажи, торжества дерзости и бесстрашия? Человек должен слушаться одного только своего «хочу», которое порождает его воля. Хочешь, я покажу тебе твое «хочу»?
Федюшка даже удивиться не успел странному вопросу. Из-за клыков раззявленной змеиной пасти выскочил длинный, раздвоенный на конце язычок и вонзился в Федюшкину грудь, свободно пройдя сквозь одежду. Федюшка ощутил легкий укол в груди, собрался было ойкнуть, но через мгновение не ойкнул даже, а вскрикнул громко, совсем уже по другому поводу: перед самым его носом на подрагивающем раздвоенном языке стоял маленький-маленький, со спичку ростом, человечек, точь-в-точь Федюшка и лицом, и телом, лицом, правда, не очень, слишком уж капризно-требовательным было его сморщенное личико. Гримаса недовольства чем-то перекосила крохотные черты его, глазки гневно сверкали, а из ротика вдруг громоподобно прозвучало: «Хочу!» Федюшка отпрянул в ужасе: вот тебе и крохотулька, репродуктор на столбе тише рявкает.
– Не шарахайся от своего повелителя, – с усмешкой сказал змей.
– Как повелителя? Вот этот…
– Он самый. Не гляди, что маленький. Это и есть твое «хочу», коему ты покорный раб.
Не смущайся словом, юноша. Раб своего «хочу» есть повелитель жизни, быть его рабом – это прекрасный удел сильного человека, это значит наперекор всему делать то, что тебе нравится. Захотел варенье – беру, захотел присвоить груду камней, то бишь тяжелые снаряды, – беру, захотел бессмертия… тут вроде бы и загвоздка; хорошо, конечно, когда носишь в себе такое жадное и громкое «хочу», но ничтожное твое «могу» здесь бессильно, но! Разве могу я, со своим всемогущим «могу» остаться равнодушным к воплю твоего повелителя? Мы с твоим «хочу» давние приятели.
– И мы тоже! – встрял пупырчатый комок, и оба расхохотались. И Смерть вслед за ними задрыгалась, захихикала своим старушечьим голоском.
– Ваша кромешность, мне пора, – сказала она вдруг, резко прекратив смех.
– Да, – взревел змей, – хватит пустословить! – Чешуя змея с треском разорвалась, разметалась на кусочки, и Постратоис снова явился в своем первоначальном виде. – Эти несносные огонечки жизни порядочно-таки расколыхались, их избыток меня раздражает.
– А меня так прямо опаляет! – вскричал пупырчатый комок, подпрыгивая на месте.
– Гасить! – взвыла Смерть и подняла вверх руки.
– Не трепещи, юноша. – Постратоис положил руку на плечо Федюшки и прижал его к себе. – Не бойся, больше Смерть шутить не будет, она два раза не шутит. И вообще, не придавай большого значения жестам и словам.
– Как? – Федюшка поднял растерянные глаза на Постратоиса. – Ты же сам говорил, что слово – это основа всего.
– Говорил, говорил, – рассмеялся Постратоис, – я вообще много говорю, ха-ха-ха… хватит разговоров! В полет! Ужасающие огоньки жизни ждут дыхания Смерти.
А те, в ком они угасают, ждут моего приговора. А?! Хотя в последнем я не уверен, хаха-ха!
И вместе с взметнувшимся в потолок хохотом туда же взметнулся и сам Постратоис. Мощным объятием он прижимал к себе Федюшку. Федюшка же только зажмурился, думая, что сейчас их черепа в куски разнесет от удара в потолок. Но, будто игла масло, пронзили они потолок и крышу без вреда для себя. Федюшку обдало морозом, и он увидел, что летит, прижатый к Постратоису, над лесом, среди снежной вьюги и все меньше и меньше под ним становится земля. Чуть поодаль развевался белый балахон Смерти, как показалось Федюшке, он жутко увеличился в размерах, и думалось даже, что сейчас он, вместе с вьюгой накроет всю землю и именно поэтому радостно хохочет пупырчатый Грех, летевший тут же. «А ну как руку отпустит?» – мелькнула страшная мысль в Федюшкиной голове. Жаром дохнуло на него от такой мысли, он даже вспотел, несмотря на окружающую стужу.
– Не трепещи, юноша, – услышал Федюшка над своим ухом, – не для того я тебя выволок на воздух, чтобы сбросить вниз.
Мы в поднебесье, это мое царство. И все, что внизу, тоже все мое, все предано мне.
И снова то ли хохот Постратоиса, то ли гром поднебесный вдруг грянул так, что у Федюшки едва уши не лопнули.
– Поднебесье – это то, что под небесами? А где небеса? Разве мы не в небесах? – спросил Федюшка.
Хохот-гром снова расколол морозный воздух.
– Нет, юноша, это не небеса, ни к чему нам небеса, пусть там святоши своим никчемным добром кичатся. Зато мы в свободном полете! Смотри!..
Скорость и высота полета нарастали. Белые равнины внизу сменялись черными пятнами лесов и серыми нитками незамерзающих рек. Мертвой и пустой виделась земля, над которой металась снежная вьюга. Первый испуг и потрясение у Федюшки прошли, теперь он испытывал восхищение от полета, и оно росло и росло; он уже забыл и про свой дом, где осталась бабушка, забыл и про бабушку, и даже о бессмертии забыл, его целиком захватило замечательное, неведомое ранее чувство высоты и скорости, главное, что ты не запрятан в металлическое брюхо самолета, а безо всякого самолета и вообще безо всего, ветер в лицо, летишь, влекомый неведомой силой, и чувствуешь себя могущественнее всех оставшихся далеко внизу невидимых человеков. Да! Все оставшиеся внизу – жалкие человечки, а ты – человечище, матерый человечище, сверхчеловек! И не думается вовсе о том, что сверхчеловеком ты сделался благодаря обхватившей тебя когтистой лапе странного существа со странным именем Постратоис, и твой затылок при этом упирается в вонючую подмышку.
– Снижаемся, – скомандовал Постратоис.
– Эх, какого кормильца лишаюсь! – фальшиво-жалостливо вскричал пупырчатый комок. – Эх, принимай, подруга.
– Принимаю, – ухмыльнувшись, произнесла Смерть. Многократным эхом, неизвестно от чего получившимся, прокатилось по всему поднебесью это ее «принимаю». Снижение было настолько резким, что Федюшка едва не задохнулся от встречного воздушного кляпа. И через мгновение он прямо перед собой увидел старого человека с жадными воспаленными глазами, который стоял на коленях перед вырытой им ямой и счастливым сумасшедшим взглядом таращился на дно ямы. Вдруг он схватился рукою за сердце; его глаза, откуда сверкало бешеное счастье, враз лишились всякого сверкания и стали неподвижными, а сам человек опрокинулся на спину, голова откинулась набок, рот раскрылся, и оттуда вывалился язык.
– Р-разрыв сердца! Бр-раво! – восторженно прорычал Постратоис. – Великолепная кончина!
Они вновь набирали высоту, далеко позади уже был мертвец.
– Но почему?! – воскликнул Федюшка, ему вдруг стало жалко старика. – Разве его жизненный огонек угасал?
– Разрыв сердца, я же сказал, – мрачно ответил Постратоис, – а огонечка, юноша, у него вовсе не оставалось, он весь на радость израсходовался. Бедолага клад нашел, ну и не выдержало сердечко радости. А потом, что это, юноша? Уж не жалеешь ли ты его? Нет ничего отвратительнее жалости. Разве тебя этому в школе не учили? Да и что может быть бессмысленнее жалости к трупу, ха-ха-ха… был старик – фу! И нету старика, лучше б ты пожалел лопату, что с ним рядом валялась, меж ними сейчас никакой разницы. Ох-ха-ха-ха-ха…
Поежился Федюшка от слов и хохота Постратоиса, и даже прелесть полета потускнела. Особенно страшно прозвучало слово «труп».
– А что за клад он нашел? – спросил Федюшка, спросил, чтобы что-нибудь спросить, чтобы прогнать из ушей застрявшие там шелестящие и рычащие звуки слова «труп».
– Клад-то? А сокровище, сундучок с монетками, – прогрохотало сверху.
– А чье оно теперь? – встречный ветер почти поглотил этот робкий Федюшкин вопрос, но Постратоис услышал его. Услышал и так захохотал, что казалось, это само поднебесье хохочет и того и гляди лопнет от хохота.
– Твое, юноша, коли захочешь, твое сокровище. Вернемся, а? Хочешь, а?
– Хочу, – едва слышно прошептал Федюшка, но и этот его шепот был услышан. Снова раздался хохот, в котором участвовали и Смерть, и пупырчатый Грех, и вся компания развернулась резко, так что у Федюшки кости заломило, и помчались назад. Старик лежал на том же месте, в том же положении.
– Ну, бери сундучок-то, – крикнул Постратоис.
– А как? Снижаться ж надо.
– Не надо снижаться, ты пожелай только. Разве ты не понял, что твое «хочу» рядом со мной всесильно.
Федюшка хотел было спросить: «А как это – “пожелай”?» – но вдруг из его нутра громогласно рявкнуло: «Хочу!» И он тут же почувствовал в руках тяжесть – сундучок был тут как тут. Необыкновенно красивый, тяжеленький сундучок, резной, из зеленого камня, с золотым маленьким замочком и ключиком золотым при нем. В сундучке погромыхивало. Федюшка прижал сундучок к животу, и так ему стало хорошо, так радостно, что сундучок теперь его, что ему захотелось запеть или заорать в голос – выплеснуть как-нибудь переполнявшую его радость, пока она не разорвала его. И утробный страшный рев вдруг вылетел из его рта, и ему даже показалось, что оттуда же выскочил маленький человечек с капризным личиком и в дикой пляске задвигался рядом с его головой.
– Блестяще, юноша, – раздалось над Федюшкиным затылком. – Увидеть! Захотеть! Заиметь! Все, что вижу, хочу иметь, все, что хочу иметь, имею, любой ценой имею, имею и наслаждаюсь! Это и есть жизнь сильного человека, та жизнь, которую святоши называют жизнью в грехе…
– Во мне, во мне! – с хохотом ворвался в разговор пупырчатый комок. – Все во мне, и я во всех!.. Бр-раво!
На это грозное «А?!» Федюшка быстро-испуганно кивнул головой, но все же сказал:
– Но ведь это… когда добро царило, человек бессмертен был? Значит, это добро питало бессмертие в человеке?
– И этот умишко я назвал живым и бойким! – раздосадованно прошелестело из змеиной пасти, и глаза змея при этом вылезли из орбит, увеличившись раз в пять, и быстро же вернулись назад.
– Да просто жалкий недоумок, – пророкотала своим обмораживающим голосом Смерть.
И у пупырчатого комка вдруг прорезался голос:
– Метлой ему по башке, а не вечную жизнь. Для кого ты стараешься, о великий Постратоис?
Башка змея почти вплотную приблизилась к Федюшкиному лицу, немигающие, без век, зенки уперлись в Федюшку обжигающим взглядом.
– Грош цена тому бессмертию, если оно так запросто у вас было отнято. Значит, и не было его, одни слова были, одни обещания, поди-ка теперь проверь, – зловещим шепотом прошипел змей, – да, прародительница Ева послушалась меня и уговорила мужа своего Адама, и они съели запретный плод! И вот всего-то за это вот, всего лишь за ослушание лишил их Бог – Творец бессмертия. Он, Бог, всегда такой, за проявление силы духа – наказывать. А что, скажи мне, есть ослушание, как не проявление силы духа? Когда утром ты варенье запретное жрал, разве не ощущал ты в себе, скажи, торжества дерзости и бесстрашия? Человек должен слушаться одного только своего «хочу», которое порождает его воля. Хочешь, я покажу тебе твое «хочу»?
Федюшка даже удивиться не успел странному вопросу. Из-за клыков раззявленной змеиной пасти выскочил длинный, раздвоенный на конце язычок и вонзился в Федюшкину грудь, свободно пройдя сквозь одежду. Федюшка ощутил легкий укол в груди, собрался было ойкнуть, но через мгновение не ойкнул даже, а вскрикнул громко, совсем уже по другому поводу: перед самым его носом на подрагивающем раздвоенном языке стоял маленький-маленький, со спичку ростом, человечек, точь-в-точь Федюшка и лицом, и телом, лицом, правда, не очень, слишком уж капризно-требовательным было его сморщенное личико. Гримаса недовольства чем-то перекосила крохотные черты его, глазки гневно сверкали, а из ротика вдруг громоподобно прозвучало: «Хочу!» Федюшка отпрянул в ужасе: вот тебе и крохотулька, репродуктор на столбе тише рявкает.
– Не шарахайся от своего повелителя, – с усмешкой сказал змей.
– Как повелителя? Вот этот…
– Он самый. Не гляди, что маленький. Это и есть твое «хочу», коему ты покорный раб.
Не смущайся словом, юноша. Раб своего «хочу» есть повелитель жизни, быть его рабом – это прекрасный удел сильного человека, это значит наперекор всему делать то, что тебе нравится. Захотел варенье – беру, захотел присвоить груду камней, то бишь тяжелые снаряды, – беру, захотел бессмертия… тут вроде бы и загвоздка; хорошо, конечно, когда носишь в себе такое жадное и громкое «хочу», но ничтожное твое «могу» здесь бессильно, но! Разве могу я, со своим всемогущим «могу» остаться равнодушным к воплю твоего повелителя? Мы с твоим «хочу» давние приятели.
– И мы тоже! – встрял пупырчатый комок, и оба расхохотались. И Смерть вслед за ними задрыгалась, захихикала своим старушечьим голоском.
– Ваша кромешность, мне пора, – сказала она вдруг, резко прекратив смех.
– Да, – взревел змей, – хватит пустословить! – Чешуя змея с треском разорвалась, разметалась на кусочки, и Постратоис снова явился в своем первоначальном виде. – Эти несносные огонечки жизни порядочно-таки расколыхались, их избыток меня раздражает.
– А меня так прямо опаляет! – вскричал пупырчатый комок, подпрыгивая на месте.
– Гасить! – взвыла Смерть и подняла вверх руки.
– Не трепещи, юноша. – Постратоис положил руку на плечо Федюшки и прижал его к себе. – Не бойся, больше Смерть шутить не будет, она два раза не шутит. И вообще, не придавай большого значения жестам и словам.
– Как? – Федюшка поднял растерянные глаза на Постратоиса. – Ты же сам говорил, что слово – это основа всего.
– Говорил, говорил, – рассмеялся Постратоис, – я вообще много говорю, ха-ха-ха… хватит разговоров! В полет! Ужасающие огоньки жизни ждут дыхания Смерти.
А те, в ком они угасают, ждут моего приговора. А?! Хотя в последнем я не уверен, хаха-ха!
И вместе с взметнувшимся в потолок хохотом туда же взметнулся и сам Постратоис. Мощным объятием он прижимал к себе Федюшку. Федюшка же только зажмурился, думая, что сейчас их черепа в куски разнесет от удара в потолок. Но, будто игла масло, пронзили они потолок и крышу без вреда для себя. Федюшку обдало морозом, и он увидел, что летит, прижатый к Постратоису, над лесом, среди снежной вьюги и все меньше и меньше под ним становится земля. Чуть поодаль развевался белый балахон Смерти, как показалось Федюшке, он жутко увеличился в размерах, и думалось даже, что сейчас он, вместе с вьюгой накроет всю землю и именно поэтому радостно хохочет пупырчатый Грех, летевший тут же. «А ну как руку отпустит?» – мелькнула страшная мысль в Федюшкиной голове. Жаром дохнуло на него от такой мысли, он даже вспотел, несмотря на окружающую стужу.
– Не трепещи, юноша, – услышал Федюшка над своим ухом, – не для того я тебя выволок на воздух, чтобы сбросить вниз.
Мы в поднебесье, это мое царство. И все, что внизу, тоже все мое, все предано мне.
И снова то ли хохот Постратоиса, то ли гром поднебесный вдруг грянул так, что у Федюшки едва уши не лопнули.
– Поднебесье – это то, что под небесами? А где небеса? Разве мы не в небесах? – спросил Федюшка.
Хохот-гром снова расколол морозный воздух.
– Нет, юноша, это не небеса, ни к чему нам небеса, пусть там святоши своим никчемным добром кичатся. Зато мы в свободном полете! Смотри!..
Скорость и высота полета нарастали. Белые равнины внизу сменялись черными пятнами лесов и серыми нитками незамерзающих рек. Мертвой и пустой виделась земля, над которой металась снежная вьюга. Первый испуг и потрясение у Федюшки прошли, теперь он испытывал восхищение от полета, и оно росло и росло; он уже забыл и про свой дом, где осталась бабушка, забыл и про бабушку, и даже о бессмертии забыл, его целиком захватило замечательное, неведомое ранее чувство высоты и скорости, главное, что ты не запрятан в металлическое брюхо самолета, а безо всякого самолета и вообще безо всего, ветер в лицо, летишь, влекомый неведомой силой, и чувствуешь себя могущественнее всех оставшихся далеко внизу невидимых человеков. Да! Все оставшиеся внизу – жалкие человечки, а ты – человечище, матерый человечище, сверхчеловек! И не думается вовсе о том, что сверхчеловеком ты сделался благодаря обхватившей тебя когтистой лапе странного существа со странным именем Постратоис, и твой затылок при этом упирается в вонючую подмышку.
– Снижаемся, – скомандовал Постратоис.
– Эх, какого кормильца лишаюсь! – фальшиво-жалостливо вскричал пупырчатый комок. – Эх, принимай, подруга.
– Принимаю, – ухмыльнувшись, произнесла Смерть. Многократным эхом, неизвестно от чего получившимся, прокатилось по всему поднебесью это ее «принимаю». Снижение было настолько резким, что Федюшка едва не задохнулся от встречного воздушного кляпа. И через мгновение он прямо перед собой увидел старого человека с жадными воспаленными глазами, который стоял на коленях перед вырытой им ямой и счастливым сумасшедшим взглядом таращился на дно ямы. Вдруг он схватился рукою за сердце; его глаза, откуда сверкало бешеное счастье, враз лишились всякого сверкания и стали неподвижными, а сам человек опрокинулся на спину, голова откинулась набок, рот раскрылся, и оттуда вывалился язык.
– Р-разрыв сердца! Бр-раво! – восторженно прорычал Постратоис. – Великолепная кончина!
Они вновь набирали высоту, далеко позади уже был мертвец.
– Но почему?! – воскликнул Федюшка, ему вдруг стало жалко старика. – Разве его жизненный огонек угасал?
– Разрыв сердца, я же сказал, – мрачно ответил Постратоис, – а огонечка, юноша, у него вовсе не оставалось, он весь на радость израсходовался. Бедолага клад нашел, ну и не выдержало сердечко радости. А потом, что это, юноша? Уж не жалеешь ли ты его? Нет ничего отвратительнее жалости. Разве тебя этому в школе не учили? Да и что может быть бессмысленнее жалости к трупу, ха-ха-ха… был старик – фу! И нету старика, лучше б ты пожалел лопату, что с ним рядом валялась, меж ними сейчас никакой разницы. Ох-ха-ха-ха-ха…
Поежился Федюшка от слов и хохота Постратоиса, и даже прелесть полета потускнела. Особенно страшно прозвучало слово «труп».
– А что за клад он нашел? – спросил Федюшка, спросил, чтобы что-нибудь спросить, чтобы прогнать из ушей застрявшие там шелестящие и рычащие звуки слова «труп».
– Клад-то? А сокровище, сундучок с монетками, – прогрохотало сверху.
– А чье оно теперь? – встречный ветер почти поглотил этот робкий Федюшкин вопрос, но Постратоис услышал его. Услышал и так захохотал, что казалось, это само поднебесье хохочет и того и гляди лопнет от хохота.
– Твое, юноша, коли захочешь, твое сокровище. Вернемся, а? Хочешь, а?
– Хочу, – едва слышно прошептал Федюшка, но и этот его шепот был услышан. Снова раздался хохот, в котором участвовали и Смерть, и пупырчатый Грех, и вся компания развернулась резко, так что у Федюшки кости заломило, и помчались назад. Старик лежал на том же месте, в том же положении.
– Ну, бери сундучок-то, – крикнул Постратоис.
– А как? Снижаться ж надо.
– Не надо снижаться, ты пожелай только. Разве ты не понял, что твое «хочу» рядом со мной всесильно.
Федюшка хотел было спросить: «А как это – “пожелай”?» – но вдруг из его нутра громогласно рявкнуло: «Хочу!» И он тут же почувствовал в руках тяжесть – сундучок был тут как тут. Необыкновенно красивый, тяжеленький сундучок, резной, из зеленого камня, с золотым маленьким замочком и ключиком золотым при нем. В сундучке погромыхивало. Федюшка прижал сундучок к животу, и так ему стало хорошо, так радостно, что сундучок теперь его, что ему захотелось запеть или заорать в голос – выплеснуть как-нибудь переполнявшую его радость, пока она не разорвала его. И утробный страшный рев вдруг вылетел из его рта, и ему даже показалось, что оттуда же выскочил маленький человечек с капризным личиком и в дикой пляске задвигался рядом с его головой.
– Блестяще, юноша, – раздалось над Федюшкиным затылком. – Увидеть! Захотеть! Заиметь! Все, что вижу, хочу иметь, все, что хочу иметь, имею, любой ценой имею, имею и наслаждаюсь! Это и есть жизнь сильного человека, та жизнь, которую святоши называют жизнью в грехе…
– Во мне, во мне! – с хохотом ворвался в разговор пупырчатый комок. – Все во мне, и я во всех!.. Бр-раво!