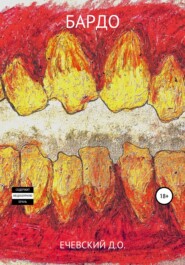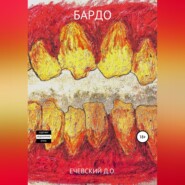По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тираннозавр
Автор
Год написания книги
2022
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я… я не знаю.
– Я хочу детей, я твердо решила. Наверное, это единственное, чего я по-настоящему хочу в этой жизни.
– Я знаю об этом. Но не могу. Не сейчас.
– А когда?
Последняя косточка надламывается, и суживается горло. О больше неспособен. Кричит.
– Ань, я не знаю когда, но точно не сейчас! Я вообще не уверен, что когда-либо захочу детей!
Молчание. О быстро стынет. Молчание. Его совесть трясется в припадке. О вспоминает, он потерял ее, ОН ПОТЕРЯЛ ЕЕ!
– Аня?
Нет.
– Аня?! Аня!
О оборачивается. Нет. Нет. Нет. Никого. Нигде. Никогда. Позади. Спереди. Никого нет. Лишь пустая сторона матраса и стена. Та самая, недокрашенно-жуткая, жутко-ровная, безглазая стена-урод. «Надеюсь, больше никогда не встретимся». Этот голос. Эта фраза. Шепот откуда-то из-за стены. О бросается к ней и стучит в немое бетонное лицо.
– Аня! Аня!
Ничего. Тишина. Беззубое бормотание стены. Ухо прилипает к ней. Где-то там, внутри, едва различимое. Что это? О не может разобрать его. Да что?! Ребенок рыдает.
Там плачет какой-то ребенок. Поначалу чуть-чуть, затем вопит ему прямо в перепонку. Невозможно. Невыносимо. Сойти с ума это еще не самое страшное. Что тогда? О пытается замуровать пальцами уши. Забить, завалить, придушить плач. Но крик накатывает и разливается по комнате и одеялу. Тело извивается и просится выйти из себя наружу. Вибрирует покрывало. В какой-то момент О начинает различать нечто другое.
Нет. О нет! Это не ребенок, это скрежет, это. Куда?! Близкий, как удар. Громкий, как тишина. Это слишком, слишком, СЛИШКОМ. Ему кажется. Да, ему кажется, этот скрежет вовсе не из стены, нет, из его собственной головы. Из его уха. Его ухо кричит и рвет на себе кожу.
Этот плач, и скрежет, и ужас льются из него. Он – труба, по которой течет все. Как будто кто-то с смертоноснейшей быстротой царапает ногтями его череп ИЗНУТРИ. Рой монстров. Ад внутри. Ржавые ногти. Мозг зудит и воет. Больно! Мне больно! Человек сам себе дьявол. Его голова – это концлагерь, в котором убивают весь мир. И над миром нет неба.
О просыпается. Скрежет все ближе, громче, скоро. Ужас. О отбегает от стены. Хлопает по включателю. Свет. Он отшатывается, отшатывается, отшатывается. Стопы бредут, ломаются. Ползет. От стены к стене. Пытаясь ухватиться за пол, но только сдирает ногти.
Все громче и сильнее, больнее. Скрежет. Скрежет ползет за ним по воздуху, по воспоминаниям, по любви. Спина прижата к спине комнаты. Ему больше некуда уходить. Ему не уйти.
О пытается влезть в бетон, но тот толкает его в спину, стена толкает его в позвоночник. Бьет, едва не ломая. Он мертв. Или жив? Нет. Ты не нужен. Ненужный ты. Уходи.
Крик настолько громок. Еще миг и стена не выдержит перепонок О. И расплавится пеплом, взорвется слюной или из нее вылезет что-то. Как может так кричать стена? Так кричать может только Бог. Скрежет ползет наружу, в одиночество, под тухлый свет кишки, повешенной на проводе. Нечто – настолько же близкое, как вдох. Оно и внутри. По бронхам и в груди. Режет ребра.
– Что ты хочешь?! Хватит! Оставь меня!
Но этого мало. МАЛО! Надо больше, громче, жестче. Ты не раскаялся! Пока кишки не сварятся в боли. Ты должен вечно страдать. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Это так долго. Скрежет дышит ему в лицо. О встает и плотно ложится в стену стоя. Припаянный ужасом. Хорошо быть замурованным.
– Зачем ты мучишь меня? У меня ничего нет. У меня нет ничего!
Спина пинает О в спину. Он падает на колени. Они не разбиваются. Почему?! Пусть они сдохнут и будут плакать кровью. О рыдает безмолвно, недолго.
– Прошу, оставь, прости меня…
О издает поблекший шепот. Он уже совсем. Сквозь себя. Через себя. Судороги тихо стонут. Кровь молится венам, чтобы жили.
Уста скрежета смолкли. Тишина умирает. Ее труп валяется в темном воздухе. Взгляд боится провалиться в пасть стены. О бросает истерзанные глаза в пол. Ничего не происходит. Воздух молчит. И тут. Звук.
Звук, тихий и скользкий, как спрут. Странный, как мысль о потустороннем мире. Усталая тревога вскидывает голову. О готов положить свой череп под пресс. Что терять? Не раздавлены лишь волосы. О смотрит. На том самом месте, где абрикосово-нежный оттенок краски попадает в желудок шершавого бетона. Там. Где смешиваются два моря: будущего, которое могло бы и будущего, которое должно быть. Там розовеют оба берега. Бережно, затем быстрее. Розовый пожирается красным. Это нечто пухнет, растет, расширяется, поедая все больше пространства. Ужас глаз вглядывается в происходящее. Это язва. Она разливается по стене кровоподтеками, едкими порезами, венами рек, сукровицей стен. Округлый надрыв, который ширится и пульсирует, как приступ. Как застрявшее в стене сердце. По краям раны начинают сыпаться гвоздеобразные черви. Нет места спокойствию для бетонной кожи. Кровавый поток меняется в цвете. А в сердцевине боли начинает виднеться еще что-то. Черное, как дно колодца ночью. И из колодца ползет наружу пальцами-червями, как паук. Что это? О пытается отодвинуться, но спина стены позади не позволяет ему. Только ноги танцуют в судороге. Выкидывают то туда, то сюда носки. Тискообразно смыкают колени и растопыривают назад в попытке сломать коленную чашечку. Это рука. Выползшая из могильной язвы. Из колодца страха. Цвета ночи, она паукообразно тянется к О. Чего она хочет?
Ее пальцы становятся в строй. Все замирает. Язва больше не растет. Рука стынет в комнатном холоде, протянутая в сторону О. Ее кисть разжата, черная ладонь повисла луной.
О не знает, что ему делать. Он сидит. Ничего не меняется. Время елозит. Ноги сами тащат наверх. Подняться. Все осталось прежним. Если бы хотело убить, убило бы. Оно хочет, чтобы я жил. О чувствует себя слепцом, но видит лишь один выход: сделать что-то. Посреди комнатки, крохотной, как косточка. В луже прогнившего света. – Одинокий человек, а перед ним рука, простертая к нему. Медленными попытками О приближается. Она неподвижна. Едва мгновение и страх уйдет. Что ей нужно? Может, это жест? Стопы решаются скорее мозга. Вдруг страх вешается и вызревает, ему нет места в венах. Нет пути в сердце. О понимает, ничего не осталось. И вот он уже подошел достаточно близко. Достаточно, чтобы ощутить тепло в костях и нежную доброту оливковым маслом по коже. А может… О вытягивает руку. Осторожно. Чтобы не спугнуть море. Пальцы еще нервничают и пестрят дрожью, но О вкладывает их в простертую ему ладонь и жмет ее. Никогда прежде О не было так же спокойно, как в этот самый миг, но.
Тираннозавр
Никому не было никакого дела до того, откуда двадцать третьего августа на рассвете в пять часов семь минут утра на улицу Октябрьской Революции тридцать восемь в поселке городского типа Свобода пришел и встал возле четырехэтажного панельного дома пятнадцатиметровый Тираннозавр Рекс весом восемь тонн.
На блюдца сомкнутых век маленького мальчика пролилась толстобрюхая тень – густая и тяжелая, как нефть. Саша не спал. Только притворялся. Нет, мальчик не был обманщиком. Саша всегда говорил правду. Но чаще всего молчал. Ему просто не хотелось спугнуть своего друга. Вдруг тот бы сразу убежал или стал обзываться и сердиться. Сквозь слегка приподнятую шторку век Саша видел, как персиковое око рептилии драконьим колодцем заглядывает к мальчику в окно. Он наблюдает, как я сплю.
Копоть зрачка рассматривает потертые игрушки, разукрашенные дырками. Интересно, нравятся ли они ему? Да, их не так уж много, но у Саши есть плюшевый трицератопс, деревянный спинозавр и даже большой пластмассовый стегозавр с безумно-красивыми разноцветными шипами на спине. Он как новогодняя елка, свернутая в полукруг! Саша сейчас же встал бы и показал ему все свои игрушки, но. Тираннозавра среди них не было.
Однажды Саша видел в магазине игрушек огромного, зеленого, как малахит, тираннозавра из кубиков LEGO. Каждый день по дороге домой после школы мальчик заходил поглядеть на игрушку. Затем часами окружал ее глазами. Так прошла прошлая осень. Мама сказала, это дорого. Саша писал Деду Морозу, просил об этом подарке. И когда тот пропал с полки, мальчик затаил дыхание. Тираннозавр так и не появился под елкой, как и сама елка. Зато теперь у Саши есть настоящий.
Ветви деревьев за окном хрустят и лопаются, пережевываемые во рту Бога. А око зверя дальше исследует комнату. Радужные пазлы на побледневшем от стыда полу, наклейки на белой, как протухшее молоко, стене. И глобус. Эта удивительная шарообразная карта досталась Саше от дедушки. Единственное, что осталось. Ни единого воспоминания, но это. Как в тумане. Все туман. Саша любил дедушку. Но не может вспомнить его лицо. Мальчик испытывал перед глобусом такой же трепет, как суеверный перед кристальным шаром волшебного лгуна. Все на свете возможно, когда в твоих руках глобус. С какой стороны ни посмотри, как ни крути – всюду мир, всюду жизнь.
Черная лужа рептилии бросила пятно взгляда на стол. На энциклопедию, лежавшую на нем. Толстую, как богатый кошелек. Саша выпросил ее на день рождения. Там было все. О динозаврах, обо всем. Среди тысяч страниц не хватало лишь пары, но важных.
В тот день папа разозлился на маму и Сашу. Он схватил энциклопедию. Стал трепать ее. Когда папа закончил кричать, мальчик попросил свою книжку назад. Прежде чем вернуть сыну мамин подарок, тот вскрыл жирному тому грудную клетку и вырвал оттуда пару страниц. Еле живой труп знаний рухнул на пол.
То были рисунки древних птиц и птеродактилей. Папа пошел есть рыбу и семечки. Скользкие шкурки и косточки снегом опадали на ящериц и выпивали слюной их краску. Саша хотел аккуратно похитить листочки, когда папа ушел в туалет. На тех уже скопилась высокая горка из трупиков семечек. Стоило дернуть, и косточки ринулись в пропасть под стол. Мальчик не успел до прихода. Отец увидел, как тот ползает, впиваясь нагими коленками в пол, раздвигая ножки стула, собирает улики. Саша тут же схватил один листок и второй. Прижал их к груди. Отдай. Как ни старайся, а папины руки длиннее всех расстояний. Скомкав, он бросил листки в мусорку.
Сначала Саша расстроился, но потом придумал себе кое-что. Когда смотришь на небо и видишь там птиц, можно подумать, как будто это птеродактили. И тогда это будет правда. Особенно если они низко летают. Саша очень любит птиц. Он прочел в энциклопедии, что птицы – это настоящие потомки динозавров. Папа сказал, что это дерьмо.
Саша часто смотрит, как летают ласточки. Правда, они похожи на маленькие самолеты. Не те бумажные самолетики, которые делал Саша, – Они никуда не летают. Немного пронесутся по воздуху и падают. Они даже сами никуда улететь не могут. – А настоящие, большие.
Люди летают куда захотят, когда становятся взрослыми. Даже в Африку или в джунгли, на Амазонку, где большие питоны и анаконды. Анаконды даже людей могут съесть. Потому что они большие, как три мамины гладильные доски. И пираньи тоже могут съесть, но они совсем маленькие, как папины шпроты. Мама говорит, окажись Саша там, то сразу бы умер. Но он все равно хочет туда. Мама говорит, чтобы летать, надо быть взрослым. Но почему-то она никуда не летает.
Внезапный звук прохрустел за стеклом. Пошатнулись занавески. Видел ли он энциклопедию? Глаза мальчика все еще замурованы. Лишь полутона и тени. Саше хотелось рвануть с кровати, схватиться за руку окна и убрать все прозрачные стены. Обнять своего друга и целовать, целовать, целовать. А вдруг они не друзья?
Прижаться, прилипнуть к холодным чешуйкам, обжечь свои руки в котлах его глубоких широких ноздрей, пощекотать внутри, потрогать, ощупать тяжеленные бритвы, жирные колья зубов. Ну а что, если они не друзья?
Конечно. Дружить. Его никто никогда не учил этим самым простым и важным вещам. Никто никогда не сказал ему это. Однако, казалось, что он где-то наверняка это слышал. Много раз. Каждый день. Каждый час. Самое важное правило в жизни. Саша знал сам. Если всегда быть хорошим с другими, то и с тобой будут всегда хорошо. И это работало. И у него получалось это со всеми, кроме людей. Совесть
это игра такая. Око знало, что Саша не спит. Знало, мальчик видит все до мельчайших песчинок подробностей сквозь закрытость своих маленьких глаз: абрикосовый чан рептилии с ночью посередине, косточкой-тьмой в жёлтом варенье – зрачком. А вокруг глазного костра – зеленая стенка из титановых листьев и глины, жидкий панцирь из изумрудно-древесных камней, как магма, как травянистая лава, что разлилась по окну вокруг глаза – чешуя динозавра. Саша все еще не открыл глаза. Но ему придется. Всем всегда приходится.
Рекс двинулся вниз. Его хвост нежно лизнул оконное стекло, кистью наконечника. И по стеклу забегала волна вибраций, разлилась по воздуху. Звук, как будто ледяной снежок, запущенный грозой, влип в окно, застыл.
Веки Саши были тут же взвинчены наверх. Глаза открыты. Потолок. Затем шлепок землетрясения у подножья дома. Тираннозавр рухнул наземь; так, что всколыхнулось одеяло, и судорога заерзала в ноге. Спокойно. Закричала чья-то тачка. Так сильно, надрывая горло. Нет, не одна сигнализация. Даже человек не может так кричать. Их море. Сирены, как в той книжке у Гомера. Не кричат ли все на свете звуки, чтобы свести с ума?
Спокойно. Саша дышит животом. Его учил школьный психолог, после того как он как-то раз начал задыхаться на уроке музыки. Вдох и выдох. Все нормально. Все хорошо. Он то ли счастлив, то ли до немоты напуган. Счастье не отличить от ужаса.
Салатно-карие глаза мальчишки бегут к окну. Еще пару шажков по полу босиком – и все. Шмяк. Шмяк. А что, если? А вдруг его там…? Шаг. Нет. Он тут. Он там! Пятнадцать метров мышц, зубов и силы. Как корабль, что застрял в ужасно-узкой бухте. Среди рифов клумб и лавочек.