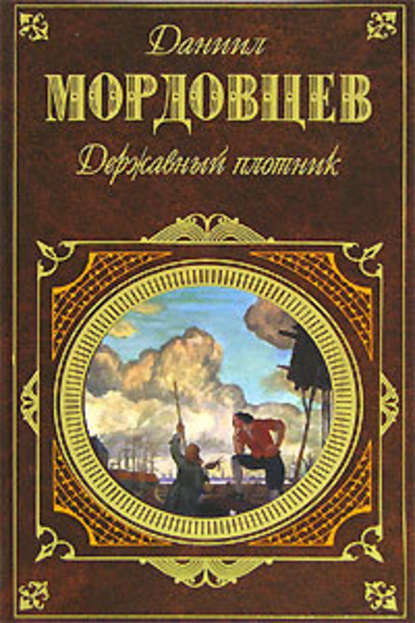По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какая громада, дурной?
– Та от до их.
И запорожец в рясе лениво ткнул широкою ладонью по направлению к Еропкину. И Еропкин, и архиерей улыбнулись.
– Чего же им от меня нужно, хлопче? – весело спросил Еропкин.
– Та просить, мабудь, де що...
Толпа, однако, прибывала, а единственный полицейский, стоя у ограды, преусердно чесал себе спину по-свиному: терся спиной об ограду.
Еропкин, наскоро простившись с архиепископом и сказав, что он наведается к нему по делам, вышел к толпе. За ним вышел и архиерейский служка.
При виде генерала толпа обнажила головы. Заколыхался целый лес волос всевозможных мастей, но с сильным преобладанием русоватости и нечесаности.
– Чего вам нужно, ребята? – по-солдатски спросил Еропкин.
– Мы к вашей милости, – загалдели и замотались головы, кланяясь и встряхиваясь, как в церкви перед иконой.
– В чем ваша просьба?
– Вели распечатать! Голодом помираем!
– Будь отцом! Заступись! Дай за себя Бога молить!
– В разор разорили нас, батюшка! Защити! Укроти их алчобу несытую!
– Сделай Божескую милость! Не пусти по миру.
Разверстые глотки распустились, и удержу им нет. Понять эту коллективную народную петицию нет никакой возможности. И Еропкин должен был прибегнуть к знакомой русскому человеку речи, к сильному ораторскому приему.
– Молчать! – закричал он, как на ученье.
Разверстые глотки остались разверстыми, рты так и замерли открытыми, но безмолвными. Еропкин понял, что вступление к его речи оказалось удачным, и потому он продолжал в том же русском стиле, с прибавлением в скобках крепких, любезных русскому уху слов или крепостей словесных, вроде трах-тарарах и тому подобных трехпредложных междометий и глаголов.
– Вы, такие-сякие, ворвались сюда без спросу! Кто позволил вам ломиться в монастырь, нарушать тишину святого места? Я вас, трах-тарарах, перепорю всех до единого! Чего вам нужно? Говори один кто-нибудь, да потолковей, да покороче... Вот ты, старик, говори, в чем ваша просьба?..
Еропкин указал на старенького-старенького старичка со слезящимися от ветхости глазами и с бородой грязно-желтою, словно закоптелою или залежавшеюся в могиле. Старик мял шапку фасона времен Ивана Васильевича Грозного, шапку, чудом уцелевшую от опричнины.
– Говори, старик!
– Государь-батюшка, смилуйся, пожалуйста! – зашамкал старик языком челобитных времен царя Алексея Михайловича. – Мы, холопы ваши, московские банщики, челобитную приносим тебе, вашему сиятельству, на твоих слуг государевых, на полицейских воровских людей...
– Что ты вздор городишь, старый дурак! – осадил оратора Еропкин. – Говори дело, какие воровские люди?
– А печатальщики, батюшка-князь, что запечатали добро наше, и нам с женишками и детишками помереть пришло голодной смертию... Государь-батюшка, смилуйся, пожалуй!
– Какие печатальщики? Какое добро запечатали? Говори ты! – накинулся Еропкин на детину из Голичного ряда, который любил толкаться, где много народу. – Сказывай ты, а то от бестолкового старика ничего не добьешься... Ну!
– Мы, ваше сиятельство, голицами торговали, – начал детина, который был не робкого десятка, – а намедни, значит, бани запечатали...
– Ну, запечатали, так что ж?
– А нам мыться негде...
– Вот претензия! Да тебе, быку эдакому, зимой в проруби купаться, так за честь, – засмеялся Еропкин. Детина осклабил свой рот до ушей.
– А мы, ваше сиятельство, банщики, нам детей кормить надо, – осмелился другой парень, видя, что страшный генерал не сердится. – Мы без работы с голоду помираем...
– Государь-батюшка, смилуйся, пожалуй! Не вели казнить! – снова завопил старик языком челобитных. – Мы твои холопы и государевы... смилуйся, пожалуй!
– «Вели бани распечатать!» – «Защити!» – «Не пусти по миру!» – «Сделай Божескую такую милость!» – прорвалась плотина, снова разверзлись глотки всего соборища банщиков и небанщиков. – «Распечатай!» – «Заступись!»
Еропкин опять должен прибегать к испытанному средству, к ораторским приемам в русском стиле:
– Молчать, канальи!..
Рты опять закрылись. Передние ряды попятились, навалили на задних, те дрогнули, шарахнулись...
– Ишь, сволочь, чего захотела! Отпечатай им торговые бани. Да вы все там перезаразитесь и заразите весь город. Вон и так язва уж в городе.
– Где язва в городе, батюшка! Никакой у нас язвы нетути, – заговорил другой старик. – Коли суконщики мрут, дак это их ремесло такое. Фабричному как не мереть!
– Шерсть, чу, заразную к им из Серпухова отай привезли.
– Не шерсть, а голицы, чу, от морной скотины шкуру.
– Как голицы? Что ты врешь!
– Не вру... за грош купил, за грош и продаю.
– То-то, грош...
– Не голицы, а кот, слышь, из Киева чумный прибег.
– Где коту из Киева до Москвы добежать! Не кот.
– Знамо, не кот... А из полку, из турецкой земли, сказывают, от мертвой цыганки волосы привезли, целу косу, бают.
– Не косу, а образок, чу, с волосами, от офицера к его невесте, Атюшевой прозывается, Лариса... От ее мор пошел.
– А вон люди бают, не от ее, а от собачки махонькой, полковой, Маланьей зовут, солдат сказывал.
Еропкин чувствовал, что у него голова начинает кружиться от этого невообразимого гама и от этой ужасающей чепухи, в которую превращался народный говор. Он видел, что, покажи он малейшую слабость и нерешительность, ему этого народного моря уже не унять без потоков крови... Этот кот, что «прибег из Киева», «голица от чумной шкуры», «коса какой-то цыганки», «махонькая полковая собачка»... да это уже народные легенды, верованья, которые из них пушками не вышибешь.
Еропкин все это сразу сообразил и понял, что Москва стоит над пороховым погребом, что достаточно одной искры, чепухи вроде кота, что «прибег из Киева», и Москву взнесет на воздух.
– Молчать! – в третий раз прибег он к верному, ошпаривающему средству, к крепкому слову, которое для русского народа сильнее всяких заклинаний. – Бани запечатаны для того, чтоб народ в них друг другу заразу не передавал.