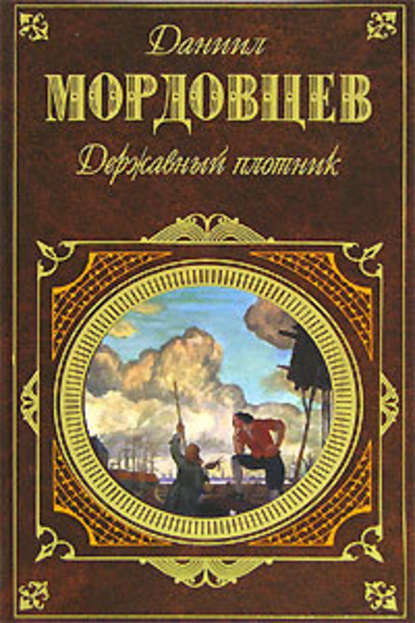По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Матушка-барышня, не вымолвлю... отсохни язык...
– Убили его, в полон взяли?
Говоря это, девушка машинально опустилась на колени, как бы умоляя о пощаде... Старуха дрожащими руками вынула из-за пазухи образок-медальон...
– Вон... прислал, голубчик... волоски тут...
Девушка, схватив образок, видимо, не понимала, что же такое делается вокруг... Старуха качалась на месте, словно бы безмолвно причитая по ком. Девушка все поняла.
– Не в полону... не убили... сам прислал... Так умер?
– Преставился.
Девушка ничего больше не сказала. Она, шатаясь, подошла к столу, на котором за минуту перед тем гадала о своем суженом и даже видела его, тихо опустилась на стул, бессмысленно глядя на медальон, и молчала.
– Волоски-то какие... шелковые... целая прядочка, – шептала старуха, по-прежнему качая головой.
Девушка спокойно открыла медальон, – спокойно! – тихое спокойствие бывает или перед безумием, или перед смертью... Она знала, как открывать финифтяную крышечку. Открыла... увидала...
– И ленточкой синенькой перевиты волоски, – продолжала терзать старуха.
Да, под финифтью лежала прядь волос, свитая кольцом и перехваченная голубой ленточкой... длинные белокурые волосы, словно от девичьей косы... А старуха причитала:
– Я всю дорогу целовала их, плачучи... Голубчик мой! Как и кстили его, я мамкой была, так и тогда, как поп в купель волоски-то его с вощечком бросил, я выняла их, спрятала. Беленьки, как вот и эти... А твои-то, сердешная моя, волоски черненьки... Я и тебя кормила, от их отошла тогда к вам... три годочка тогда ему было, как тебя-то кстили... Я и твои волоски в ту пору спрятала, вместе лежат у меня. Думала я тогда, глупая, что невесту ему, бедному, вскормлю. Вот и вскормила на горе, на слезы горькие. Обоих-то я вас, горемычная, вскормила, да только счастья-доли у Бога не вымолила...
Девушка наконец зарыдала, упав головой на стол.
– Плачь, дитятко, плачь, бедное... Слезы льются – горько, а не льются – горше того... Выкатится слеза, высохнет, а не выкатится, камнем на сердце падет.
И девушка плакала, выкатывала слезы-камни, которые к сердцу приваливали: «О! Зачем я родилась! Зачем не умерла раньше его!»
Из боковой двери, ведущей в соседнюю комнату мезонина, выглянуло испуганное лицо юноши, почти мальчика. Это был брат девушки, который спал в другой комнате.
– Что случилось, нянюшка? Об чем сестра плачет?
– Ох, горе у нас, батюшка-барин... И-и-хи-хи, какое горе!
– Да что же такое? Говори... Лара! Что случилось?
Девушка еще горше заплакала, вздрагивая всем телом и не поднимая головы от стола. Юноша растерялся.
– Да что же, разве в доме что случилось?
– Нет, батюшка... Александр Андреич помер.
– Как? Где? Когда?
– Там, батюшка, на войне... Приехал оттуда Грачевский, молодой барин, вести эти горькие привез, да и волоски от его на память мертвые отрезал.
– А чем он умер?
– Да вот этой самой, сказывают, хворобой, что и в Киеве летось люди мерли.
– Моровой язвой? Что ты?
– Моровой, батюшка, моровой, точно... Солдатик ихний сказывал.
– И это волосы от мертвого? – с ужасом спросил юноша.
– Точно, батюшка, от покойничка.
Юноша взглянул на стол и, увидев раскрытый медальон с прядью волос, лежавший недалеко от головы девушки, которая судорожно плакала, бросился к сестре, схватил ее за голову и силою поднял от стола.
– Лара! Ларочка!.. И ты трогала эти волосы? – спрашивал он задыхающимся голосом.
Девушка упала было ему на грудь своей бедной головой, но юноша с ужасом отскочил от нее...
– Она трогала волосы? Говори, нянька! – отчаянно допрашивал он.
– Нету... нету, батюшка, барышня не трогала их... Я только их целовала всю дороженьку.
– Да ты с ума сошла! Ты нас всех погубишь!
– Чем же, батюшка, барин, я вас погублю? – наивно спрашивала старуха.
– Да ты заразилась уж...
– Что ты, барин, пустое говоришь! От мертвых-то волосиков... Да и скончался-то он, батюшка, еще летось, за тридевять земель. Отчего тут заразе быть?
Юноша отчаянно махнул рукой и подошел к сестре.
– Ларочка! Няня говорит, что ты не дотрагивалась до этих волос (и он со страхом указал на медальон)... Ради Бога, заклинаю тебя! Не прикасайся к ним... Дай я их тотчас же сожгу...
Эти слова заставили опомниться девушку. Она схватила брата за руку.
– Нет! Нет! Не трогай их. Я хочу с ними в гроб лечь.
– Да в них зараза, смерть!
– Смерть... О! А зачем мне жизнь?
– Глупости, Ларочка! Да если и хочется тебе умереть, так зачем же нас всех со свету гнать? А ведь от тебя мы заразимся все. Нам Шафонский читал об этой болезни. Это такая проклятая зараза, что она пристает к здоровому не только от больного, когда к нему дотронутся, но от его и платья и от всех вещей, которые у него были. Оттого после умершего всю одежду сожигают, а золотые и серебряные вещи или моют в растворе таком особом... либо окуривают особым порошком. Дай же, Ларочка, я хоть окурю эту мерзость, у меня есть порошок. А к няньке ты не смей и дотрагиваться... – Потом, обратясь к старухе, юноша сердито сказал: – А ты, старая дура, убирайся сию же минуту из нашего дома. Вон! Чтоб и нога твоя не была тут, пока не пройдет месяца два и пока тебя не продержат в опасной больнице... Уходи сейчас же, а то я кочергой вытолкаю и кочергу в огонь брошу... Уходи прочь, прочь!
– Уйду... Уйду, батюшка, – обидчиво сказала старуха, утирая слезы. – Вот за всю-то мою службу награда, словно собаку бешеную гонят. Уйду... Прощай, барышня-голубушка!
Девушка ничего не слыхала. Она, припав головой к столу, тихо плакала. А за окном, на улице выкрикивали женские голоса:
Что у месяца рога... Та-а-а-аусень... Та-а-а-усень.