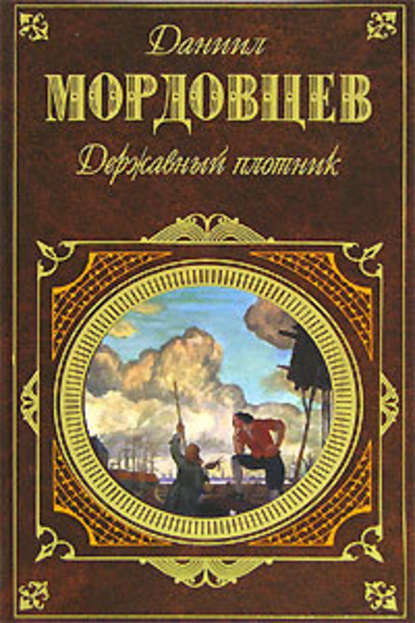По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вот потянулись бесконечные дни и ночи для наших заключенных... Тоска неисповедимая! Каждое утро невидимая рука оставляла у калитки карантинного дворика дневную порцию съестных припасов и дров. Каждый день заходил словоохотливый доктор, который для заключенных казался вестником жизни, посланником Бога милующего и спасающего... По целым часам они стояли у окна, выходившего на Оку, смотрели на карантинный рынок, на Коломну, высокие колокольни которой продолжали тянуться с мольбою к безжалостному небу.
Сначала фон Шталь завел было у себя на дворике маневры, смотры, ротное ученье, немилосердно муштровал бедных сержантов, попеременно муча своими командирскими затеями то широкоплечего Грачева, у которого из головы не выходил образок-медальон покойного друга, талисман, несущий будто бы чуму в Москву, то черномазого Рожнова, у которого, напротив, не выходила из головы Настенька и какие-то «сенцы, где в первый раз»... и так далее... Голос фон Шталя, выкрики «направо» и «налево», «стой-равняйся» и «марш» раздавались от раннего утра до обеда; но потом и это надоело, и настал период сказок: немец так полюбил русские сказки, особенно искусно рассказываемые Грачевым, что и по ночам не давал ему спать, заставляя рассказывать то о «трех-сын-добром молодце», то о «моложеватых яблоках», то о «семи Семионах».
Забродя и его рыжий товарищ, которого, кстати заметим, звали в полку «Рудожелтым Кочетом», помещались рядом с своим начальством, забор к забору. В их же дворике поместили и «полковую Маланью», которая этому была очень рада и служила источником нескончаемых утех для заключенных. По целым часам они учили ее прыгать через палку, носить им шапки, стоять на задних лапках и, наконец, ухитрились восстановить ее даже против чумы: для этого Рудожелтый Кочет нарисовал на заборе углем какую-то страшную фигуру, вроде богатыря Полконя или Полкана, и назвал ее «чумой». Сделав страшные глаза и став на четвереньки, рыжий обыкновенно с рычаньем бросался к нарисованному на заборе чудовищу, бормоча: «Чума! Чума! Чума!» Маланья, по природе доверчивая, видя в таком азарте своего господина, тоже с неистовым лаем бросалась на мнимое чудовище, и торжество скучающих заключенных выходило полное, так что им даже завидовал сам фон Шталь.
Несмотря, однако, на эти забавы, Забродя тосковал. Им все больше и больше овладевала тоска по родине. Особенно по ночам он нигде не находил себе места. Он уже и счет потерял этим проклятым ночам!
И вот опять тянется эта скучная, томительно-длинная, бесконечная ночь. Товарищ, растянувшись на койке, ровно, однообразно посапывает. Все спит, не спится одному лишь Заброде, не спится, но много думается. Вспоминается родная Украина, белая хатка в тени густолистых верб, зеленая левада и вишневый садочек... Уж эти вишневые садочки! Из-за них украинец на чужбине сохнет и на кушаке вешается... Вспоминается Заброде последнее свидание с Гopпиною в этом садочке накануне рекрутчины... Забродю берут в «москали», завтра ведут в город «сдавать» как товар... А они с Горпиною думали под венец стать, своею хаткою с вишневым садочком обзавестись... Так нет, взяли-таки в «москали», не пожалели ни Горпининых горячих девичьих слез, ни материных вдовьих, самых горячих на свете слез... Да, все это припоминается в эту долгую осеннюю ночь в московской тюрьме проклятой...
Вот из-за бузинового куста тихо выходит заплаканная Горпина... А соловейко-то щелкает, соловейко заливается – словно «дяк» ночью читает над покойником... Горпина так и повисла на воловьей шее парубка – захлебывается, плачет, обнимаючи да целуючи черноусого... И он всплакнул «парубоцькими» жгучими слезами, целуючи свою кареокую, полногрудую дивчину... А девичьи груди разорваться хотят под безутешное вехлипыванье, так и колотятся об богатырскую грудь парубка... «Серденько мое!..» – «Яблучко мое червонее!» – «Василечку мий, барвиночку зеленый, ох, ненько ж моя, матинько!» – «Я вернусь до тебе, моя ясочко»...
– Э! Вернусь... Как тут вернешься?.. А вона вже, може, с другим спарувалася... Хоть повеситься, так впору!
А за окном, под сарайчиком, так жалобно воет бедная собака. И она тоскует по ночам: с тех пор, как заметили, что по утрам она всегда пробовала провизию, приносимую заключенным, раньше, чем они просыпались, ее на ночь стали привязывать, и вот она скучает. Жаль бедного «цуцинятка», и себя Заброде жаль....
«Хиба утикти!» – словно обухом поражает его внезапная мысль... Бежать! Отсюда, из этой тюрьмы, от бесконечной каторги. Но как бежать? Куда? Туда, на Украйну, в зеленый гай, в вишневый садочек... Хоть по ночам подходить к родной хате и бродить около вишневого садочка Горпины...
Страшная мысль все более и более овладевает душой и волей. Находит какое-то безумие. На подмогу является податливая совесть, у которой, как у Горпины, такое доброе сердце... Ведь отсюда бежать – не из полка бежать: за это не расстреливают, а если сквозь строй прогонят, то у Заброди такая спинная доска, вскормленная матушкою-Украиною, что десять тысяч шпицрутенов выдержит и заживет... Повидаться только с своими, взглянуть на Горпину, как она там с другим парубком – женихается... О, не дай Бог! «Вона не женихается, вона мене выглядатиме»...
Торопливо, лихорадочно закутывает он ноги онучами, захватив при этом и ощупью найденные онучи беспечно спящего товарища; надевает казенные коты; на халат вздевает казенный серый чапан – туго подтягивается, ощупью отыскивает шапку, судорожно крестится – «Мати Божа! Мати Божа!» – и неслышными шагами выходит в сенцы, а оттуда под сарайчик.
Собака разом замолчала, угадав, кто к ней идет. Забродя, припав на корточки и тихонько отбиваясь от собаки, которая радостно лизала ему руки и лицо, зубами перегрыз веревку.
Собачья головка уже торчит у Заброди из-за пазухи. Он и ее берет с собою на Украину... «Нехай и воно, бидне цуцинятко, по воли побигае»...
– Хто там? – раздается окрик часового. Забродя молчит, он уже на заборе.
– Стой! Хто там? Стрелять буду! – повторяется оклик.
«Не попаде москаль, – думает Забродя, – далеко дуже... и оруже погане, не попаде»... И спускается на волю...
«Раз-два-три».
Раздается выстрел, и Забродя пластом падает на землю. Вот тебе и воля, вишневый садочек, Украина... Только собака воет да часовой глядит в красивое мертвое лицо, не смея нагнуться к чумному...
IV. «МОРОВОЙ МАНИФЕСТ»
В морозное январское утро 1771 года в Москве у Варварских ворот то там то здесь народ кучится около какого-нибудь говоруна, и толкам нет конца. Через пятое-десятое слово слышится то «моровая язва», то «перевалка», то «на Москву идет», то «до Москвы не дойдет», то уж «пришла на Москву».
Более всего скучивается народ, фабричные и дворовые люди да сидельцы из Охотного, Обзорного и Галичного рядов около одного старенького, обдерганного священника, который держит в руках раскрытую книгу и корявым, посиневшим от холода пальцем тычет в одну из ее страниц...
– Вот тут оно и есть написано, – говорит он, стараясь, по-видимому, убедить краснощекого детину в старой лисьей шубе и огромнейшей меховой шапке, постоянно ссовывающейся ему на серые плутоватые глаза.
– Вот слушайте, православные, что глаголет Господь Моисею в книге Левит.
– Ну-ну, катай-катай, батька! – слышатся одобрительные возгласы из толпы.
Попик откашливается, сморкается «Адамовым платком», как он называет свою пригоршню, и дрожащим голосом читает:
– Вся дни, в няже будет на нем язва, нечисть будет, отлучен да седит, вне полка да будет ему пребывание...
– Ну, что ж ты мелешь! – перебивает его детина. – Это не про нас писано, а про солдат... Вне полка, слышь... А он на-ко что выдумал!
– А ты не перебивай! – горячится попик. – Полк – это по-нашему приход, а то и дом...
– Толкуй!
– А ты ну, читай ин! – подстрекают другие.
– Аще же рассыпася язва по ризе, или по прядене, или по кроках...
– «По ризе!» – снова возражает детина. – Да это, братцы, только про попов писано... «По ризе!» Ишь что выдумал! Али у меня риза лисья! А порки, поди, тоже риза по-твоему?
Попик нетерпеливо машет рукой на такое невежество...
– Аще же, – упрямо продолжает он, – рассыпася язва по ризе, или по прядене, или по кроках, да сожжет риза, прядения и кроки и да отлучит жрец язву на седмь дней...
– Жрец! Вон куда хватил! Жрец, чу... А где ты на Москве-то жреца найдешь? – настаивал пессимист-детина.
– А ты знаешь ли, брат, что такое этот жрец самый?
– Как не знать! Только у нас на Москве жрецов не бывало...
– Ан есть жрецы! Я сам жрец, вот и поди на...
– Ишь ты, жрец какой!.. Фу-ты ну-ты! Жрец! А самому, поди, жрать, нечего...
Толпа хохочет. Попик смотрит растерянно: краснощекий детина попал не в бровь, а прямо в глаз. Попик оказывается заштатным, которых тогда по Москве толкалось видимо-невидимо.
В Москве в то время еще жив был старый обычай, начало которого восходило ко временам вечевой жизни «господина Великого Новгорода» и Пскова: все свободные, безместные и заштатные священники каждое утро, бывало, толкаются у «веча», на вечевой площади, как на рынке, и торгуют своим священством: кому подешевле акафист спеть, кому дешевенькую обеденку слитургисать, по ком за осьмину овсеца сорокоуст справить, кому за яичко молитву в шапку дать, либо за поросеночка и соборованье, и литеишку отмахать, «гулящий поп» тут как тут. Обычай наемного священства, с утратою вечевой жизни, перешел в Москву с веча прямо на базар, на рынок, к Спасским да Варварским воротам. Настанет утро, и Москва валит на «толкун». «Толкун» – это старое вече: кто нанимает себе дровокола, кто ледокола, кто стряпку ищет, а кто «попика гулящего» на часы, на панихидку, на литургейку махоньку, на алтынную...
От таких «гулящих попиков» богомольная Москва каждое утро стоном стонала: то Голичный ряд задумает устроить «ходы с водосвятием» да с акафистцем, чтобы товарец их милостей, купчин Голичного ряда, голицы да рукавицы, шибче в ход шли да барыши несли; то Охотный ряд надумает утереть нос своим благочестием и Голичному и Обжорному ряду с Ножовою линией и затеет крестный ход на славу, и вот тут-то «гулящие попики» всегда на руку... Звон такой, бывало, идет по Москве, такое славословие да ангельское кричание велие, что голуби пугаются, вороны и галки как бешеные по небу да над Иваном Великим метутся и оглашают воздух неистовым карканьем.
Тогдашний архиепископ московский Амвросий Зертыш-Каменский, дед известного историка Бантыш-Каменского, по воспитанию и по привычкам более украинец, чем великороссиянин, человек, получивший широкое духовно-богословское образование, недоступное в то время для великорусского духовенства, вспоенный притом далеко не в древлемосковском духе, который царил в Москве в XVIII веке столь же крепко, как и в XVI и как продолжает царить до некоторой степени и в XIX столетии, преосвященный Амвросий давно обратил внимание на это московское древлевечевое, рыночно-уличное благочестие, из Охотного и Голичного ряда назойливо кричащее до самого неба, и увидел, что главные виновники этого благочестивого гама – вечевые «гулящие попики» с их площадным литургисанием по найму.
– Это не иереи, а дервиши, – говаривал он часто, видя, как толпы народа то и дело валма валят за импровизированными крестными ходами, устраиваемыми то Ножовою линиею, то Голичным рядом для того, чтобы шибче шли в ход голицы и рукавицы, – подобает взять вервие и изгнать из храма сих торгашей благодати.
– Не ломайте старины, владыка, – предупреждал его протоиерей Левшинов, человек замечательно умный, но вполне знакомый с московским складом ума и с московским мировоззрением, – сила Охотного ряда, ваше высокопреосвященство, великая сила в России. Российское государство само есть подобие Охотного ряда...
– А я, отец Александр, сломаю выю Охотному ряду, – настойчиво твердил владыка, – это не крестные ходы, а кулачные бои.
Но Охотный ряд оказался сильнее, он сломал выю преосвященному Амвросию... Но об этом в своем месте.
Как бы то ни было, Амвросий преследовал заштатных «гулящих попов». Вот почему замечание краснощекого детины (он был сидельцем в Голичном ряду) было очень жестоким бичом для попика, читающего книгу Левит: он действительно с голоду искал себе работки у Варварских ворот, где всегда толкались благочестивые.
Чума для этого голодного попика-поденщика была находкою, она должна была кормить его: народ, из страха смерти, будет непременно толкаться по церквам, площадям и у всяких ворот и искать себе дешевого душеспасителя... Церковные попы дорого берут за все, не жалеют православных, а «гулящий попик» и за алтын спасет душу.
Для краснощекого же детины из Голичного ряда чума была нежеланная гостья, как и для всеторговых людей.
Сначала фон Шталь завел было у себя на дворике маневры, смотры, ротное ученье, немилосердно муштровал бедных сержантов, попеременно муча своими командирскими затеями то широкоплечего Грачева, у которого из головы не выходил образок-медальон покойного друга, талисман, несущий будто бы чуму в Москву, то черномазого Рожнова, у которого, напротив, не выходила из головы Настенька и какие-то «сенцы, где в первый раз»... и так далее... Голос фон Шталя, выкрики «направо» и «налево», «стой-равняйся» и «марш» раздавались от раннего утра до обеда; но потом и это надоело, и настал период сказок: немец так полюбил русские сказки, особенно искусно рассказываемые Грачевым, что и по ночам не давал ему спать, заставляя рассказывать то о «трех-сын-добром молодце», то о «моложеватых яблоках», то о «семи Семионах».
Забродя и его рыжий товарищ, которого, кстати заметим, звали в полку «Рудожелтым Кочетом», помещались рядом с своим начальством, забор к забору. В их же дворике поместили и «полковую Маланью», которая этому была очень рада и служила источником нескончаемых утех для заключенных. По целым часам они учили ее прыгать через палку, носить им шапки, стоять на задних лапках и, наконец, ухитрились восстановить ее даже против чумы: для этого Рудожелтый Кочет нарисовал на заборе углем какую-то страшную фигуру, вроде богатыря Полконя или Полкана, и назвал ее «чумой». Сделав страшные глаза и став на четвереньки, рыжий обыкновенно с рычаньем бросался к нарисованному на заборе чудовищу, бормоча: «Чума! Чума! Чума!» Маланья, по природе доверчивая, видя в таком азарте своего господина, тоже с неистовым лаем бросалась на мнимое чудовище, и торжество скучающих заключенных выходило полное, так что им даже завидовал сам фон Шталь.
Несмотря, однако, на эти забавы, Забродя тосковал. Им все больше и больше овладевала тоска по родине. Особенно по ночам он нигде не находил себе места. Он уже и счет потерял этим проклятым ночам!
И вот опять тянется эта скучная, томительно-длинная, бесконечная ночь. Товарищ, растянувшись на койке, ровно, однообразно посапывает. Все спит, не спится одному лишь Заброде, не спится, но много думается. Вспоминается родная Украина, белая хатка в тени густолистых верб, зеленая левада и вишневый садочек... Уж эти вишневые садочки! Из-за них украинец на чужбине сохнет и на кушаке вешается... Вспоминается Заброде последнее свидание с Гopпиною в этом садочке накануне рекрутчины... Забродю берут в «москали», завтра ведут в город «сдавать» как товар... А они с Горпиною думали под венец стать, своею хаткою с вишневым садочком обзавестись... Так нет, взяли-таки в «москали», не пожалели ни Горпининых горячих девичьих слез, ни материных вдовьих, самых горячих на свете слез... Да, все это припоминается в эту долгую осеннюю ночь в московской тюрьме проклятой...
Вот из-за бузинового куста тихо выходит заплаканная Горпина... А соловейко-то щелкает, соловейко заливается – словно «дяк» ночью читает над покойником... Горпина так и повисла на воловьей шее парубка – захлебывается, плачет, обнимаючи да целуючи черноусого... И он всплакнул «парубоцькими» жгучими слезами, целуючи свою кареокую, полногрудую дивчину... А девичьи груди разорваться хотят под безутешное вехлипыванье, так и колотятся об богатырскую грудь парубка... «Серденько мое!..» – «Яблучко мое червонее!» – «Василечку мий, барвиночку зеленый, ох, ненько ж моя, матинько!» – «Я вернусь до тебе, моя ясочко»...
– Э! Вернусь... Как тут вернешься?.. А вона вже, може, с другим спарувалася... Хоть повеситься, так впору!
А за окном, под сарайчиком, так жалобно воет бедная собака. И она тоскует по ночам: с тех пор, как заметили, что по утрам она всегда пробовала провизию, приносимую заключенным, раньше, чем они просыпались, ее на ночь стали привязывать, и вот она скучает. Жаль бедного «цуцинятка», и себя Заброде жаль....
«Хиба утикти!» – словно обухом поражает его внезапная мысль... Бежать! Отсюда, из этой тюрьмы, от бесконечной каторги. Но как бежать? Куда? Туда, на Украйну, в зеленый гай, в вишневый садочек... Хоть по ночам подходить к родной хате и бродить около вишневого садочка Горпины...
Страшная мысль все более и более овладевает душой и волей. Находит какое-то безумие. На подмогу является податливая совесть, у которой, как у Горпины, такое доброе сердце... Ведь отсюда бежать – не из полка бежать: за это не расстреливают, а если сквозь строй прогонят, то у Заброди такая спинная доска, вскормленная матушкою-Украиною, что десять тысяч шпицрутенов выдержит и заживет... Повидаться только с своими, взглянуть на Горпину, как она там с другим парубком – женихается... О, не дай Бог! «Вона не женихается, вона мене выглядатиме»...
Торопливо, лихорадочно закутывает он ноги онучами, захватив при этом и ощупью найденные онучи беспечно спящего товарища; надевает казенные коты; на халат вздевает казенный серый чапан – туго подтягивается, ощупью отыскивает шапку, судорожно крестится – «Мати Божа! Мати Божа!» – и неслышными шагами выходит в сенцы, а оттуда под сарайчик.
Собака разом замолчала, угадав, кто к ней идет. Забродя, припав на корточки и тихонько отбиваясь от собаки, которая радостно лизала ему руки и лицо, зубами перегрыз веревку.
Собачья головка уже торчит у Заброди из-за пазухи. Он и ее берет с собою на Украину... «Нехай и воно, бидне цуцинятко, по воли побигае»...
– Хто там? – раздается окрик часового. Забродя молчит, он уже на заборе.
– Стой! Хто там? Стрелять буду! – повторяется оклик.
«Не попаде москаль, – думает Забродя, – далеко дуже... и оруже погане, не попаде»... И спускается на волю...
«Раз-два-три».
Раздается выстрел, и Забродя пластом падает на землю. Вот тебе и воля, вишневый садочек, Украина... Только собака воет да часовой глядит в красивое мертвое лицо, не смея нагнуться к чумному...
IV. «МОРОВОЙ МАНИФЕСТ»
В морозное январское утро 1771 года в Москве у Варварских ворот то там то здесь народ кучится около какого-нибудь говоруна, и толкам нет конца. Через пятое-десятое слово слышится то «моровая язва», то «перевалка», то «на Москву идет», то «до Москвы не дойдет», то уж «пришла на Москву».
Более всего скучивается народ, фабричные и дворовые люди да сидельцы из Охотного, Обзорного и Галичного рядов около одного старенького, обдерганного священника, который держит в руках раскрытую книгу и корявым, посиневшим от холода пальцем тычет в одну из ее страниц...
– Вот тут оно и есть написано, – говорит он, стараясь, по-видимому, убедить краснощекого детину в старой лисьей шубе и огромнейшей меховой шапке, постоянно ссовывающейся ему на серые плутоватые глаза.
– Вот слушайте, православные, что глаголет Господь Моисею в книге Левит.
– Ну-ну, катай-катай, батька! – слышатся одобрительные возгласы из толпы.
Попик откашливается, сморкается «Адамовым платком», как он называет свою пригоршню, и дрожащим голосом читает:
– Вся дни, в няже будет на нем язва, нечисть будет, отлучен да седит, вне полка да будет ему пребывание...
– Ну, что ж ты мелешь! – перебивает его детина. – Это не про нас писано, а про солдат... Вне полка, слышь... А он на-ко что выдумал!
– А ты не перебивай! – горячится попик. – Полк – это по-нашему приход, а то и дом...
– Толкуй!
– А ты ну, читай ин! – подстрекают другие.
– Аще же рассыпася язва по ризе, или по прядене, или по кроках...
– «По ризе!» – снова возражает детина. – Да это, братцы, только про попов писано... «По ризе!» Ишь что выдумал! Али у меня риза лисья! А порки, поди, тоже риза по-твоему?
Попик нетерпеливо машет рукой на такое невежество...
– Аще же, – упрямо продолжает он, – рассыпася язва по ризе, или по прядене, или по кроках, да сожжет риза, прядения и кроки и да отлучит жрец язву на седмь дней...
– Жрец! Вон куда хватил! Жрец, чу... А где ты на Москве-то жреца найдешь? – настаивал пессимист-детина.
– А ты знаешь ли, брат, что такое этот жрец самый?
– Как не знать! Только у нас на Москве жрецов не бывало...
– Ан есть жрецы! Я сам жрец, вот и поди на...
– Ишь ты, жрец какой!.. Фу-ты ну-ты! Жрец! А самому, поди, жрать, нечего...
Толпа хохочет. Попик смотрит растерянно: краснощекий детина попал не в бровь, а прямо в глаз. Попик оказывается заштатным, которых тогда по Москве толкалось видимо-невидимо.
В Москве в то время еще жив был старый обычай, начало которого восходило ко временам вечевой жизни «господина Великого Новгорода» и Пскова: все свободные, безместные и заштатные священники каждое утро, бывало, толкаются у «веча», на вечевой площади, как на рынке, и торгуют своим священством: кому подешевле акафист спеть, кому дешевенькую обеденку слитургисать, по ком за осьмину овсеца сорокоуст справить, кому за яичко молитву в шапку дать, либо за поросеночка и соборованье, и литеишку отмахать, «гулящий поп» тут как тут. Обычай наемного священства, с утратою вечевой жизни, перешел в Москву с веча прямо на базар, на рынок, к Спасским да Варварским воротам. Настанет утро, и Москва валит на «толкун». «Толкун» – это старое вече: кто нанимает себе дровокола, кто ледокола, кто стряпку ищет, а кто «попика гулящего» на часы, на панихидку, на литургейку махоньку, на алтынную...
От таких «гулящих попиков» богомольная Москва каждое утро стоном стонала: то Голичный ряд задумает устроить «ходы с водосвятием» да с акафистцем, чтобы товарец их милостей, купчин Голичного ряда, голицы да рукавицы, шибче в ход шли да барыши несли; то Охотный ряд надумает утереть нос своим благочестием и Голичному и Обжорному ряду с Ножовою линией и затеет крестный ход на славу, и вот тут-то «гулящие попики» всегда на руку... Звон такой, бывало, идет по Москве, такое славословие да ангельское кричание велие, что голуби пугаются, вороны и галки как бешеные по небу да над Иваном Великим метутся и оглашают воздух неистовым карканьем.
Тогдашний архиепископ московский Амвросий Зертыш-Каменский, дед известного историка Бантыш-Каменского, по воспитанию и по привычкам более украинец, чем великороссиянин, человек, получивший широкое духовно-богословское образование, недоступное в то время для великорусского духовенства, вспоенный притом далеко не в древлемосковском духе, который царил в Москве в XVIII веке столь же крепко, как и в XVI и как продолжает царить до некоторой степени и в XIX столетии, преосвященный Амвросий давно обратил внимание на это московское древлевечевое, рыночно-уличное благочестие, из Охотного и Голичного ряда назойливо кричащее до самого неба, и увидел, что главные виновники этого благочестивого гама – вечевые «гулящие попики» с их площадным литургисанием по найму.
– Это не иереи, а дервиши, – говаривал он часто, видя, как толпы народа то и дело валма валят за импровизированными крестными ходами, устраиваемыми то Ножовою линиею, то Голичным рядом для того, чтобы шибче шли в ход голицы и рукавицы, – подобает взять вервие и изгнать из храма сих торгашей благодати.
– Не ломайте старины, владыка, – предупреждал его протоиерей Левшинов, человек замечательно умный, но вполне знакомый с московским складом ума и с московским мировоззрением, – сила Охотного ряда, ваше высокопреосвященство, великая сила в России. Российское государство само есть подобие Охотного ряда...
– А я, отец Александр, сломаю выю Охотному ряду, – настойчиво твердил владыка, – это не крестные ходы, а кулачные бои.
Но Охотный ряд оказался сильнее, он сломал выю преосвященному Амвросию... Но об этом в своем месте.
Как бы то ни было, Амвросий преследовал заштатных «гулящих попов». Вот почему замечание краснощекого детины (он был сидельцем в Голичном ряду) было очень жестоким бичом для попика, читающего книгу Левит: он действительно с голоду искал себе работки у Варварских ворот, где всегда толкались благочестивые.
Чума для этого голодного попика-поденщика была находкою, она должна была кормить его: народ, из страха смерти, будет непременно толкаться по церквам, площадям и у всяких ворот и искать себе дешевого душеспасителя... Церковные попы дорого берут за все, не жалеют православных, а «гулящий попик» и за алтын спасет душу.
Для краснощекого же детины из Голичного ряда чума была нежеланная гостья, как и для всеторговых людей.