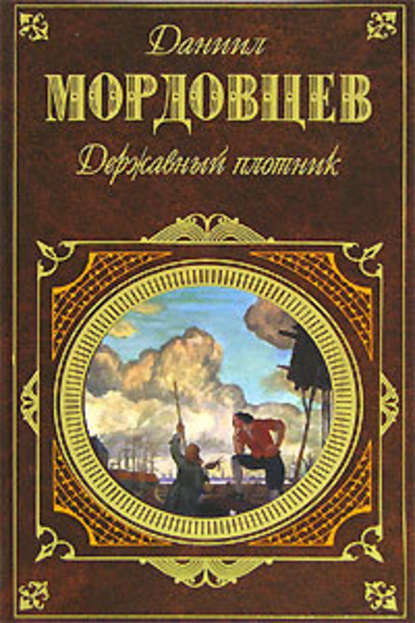По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как же, батюшка, от мытья-то зараза быть может?
– Она, сказывают, от нечисти, так надо мыться.
– И мертвых, чу, обмывают, а живых и подавно.
Еропкин поднял кверху толстую, с золотым массивным набалдашником трость и сделал два шага вперед с угрожающим жестом.
– Если кто из вас пикнет хоть, так того сейчас же в колодки и в Сибирь! – резким, надтреснутым голосом крикнул он. – Торговые бани, слышите, мерзавцы! Торговые бани запечатаны по высочайшему ея императорскому величеству повелению... Слышите! По высочайшему повелению. Так ни я, ни кто в мире их, без указа ея величества, распечатать не может. Я передаю вам высочайшую волю. А теперь по домам! Марш! А то я прикажу вас всех нагайками загонять в ваши стойла. Вон отсюда!
Передние ряды смяли задние... Вместо оторопелых лиц – спины. Все бросились к выходу, и через минуту из окон Чудова монастыря виден был лишь прежний часовой, от страха и изумления прикипевший к земле.
– Чтобы вперед народ не собирался кучами, а то я тебя пугну! – крикнул ему Еропкин, садясь в коляску.
Архиерейский служка, напоминавший запорожца в рясе, даже свистнул от удивления.
– От сердитый, так сердитый! Ой-ой-ой!
При выезде из Спасских ворот Еропкин встретил веселого доктора, который скакал куда-то на паре ямских. Доктор остановился.
– А! Это вы, доктор, – ласково сказал Еропкин, приказав своей коляске остановиться. – Куда мчитесь?
– К вашему превосходительству.
– С дурными вестями?
– Ни с дурными, ни с хорошими, а с докладом. По приказанию вашего превосходительства.
Еропкин перебил его торопливо:
– Нам время дорого, доктор, и мы не должны воровать его у государства. Не удлиняйте вашу речь пустыми словами вроде «ваше превосходительство»... Для краткости и для пользы службы называйте меня просто «генерал». Это короче, а то и никак, это еще короче.
– Слушаю-сь.
– Ну?
– Я сейчас был в Симоновом и Даниловом монастыре, куда переведены фабричные с Суконного двора. Подойдя с надлежащею осторожностью к воротам, я, с ведома караульного офицера, приказал вызвать к калитке запертого в том монастыре вместе с фабричными подлекаря и чрез огонь расспросить его обстоятельно, были ли вновь из фабричников заболевшие и умершие и оба сия приключения каким порядком происходили... Из ответов подлекаря я узнал, что и умершие, и вновь заболевшие были и что по признакам болезнь та, несомненно, моровая язва, с какою я в Бессарабии познакомился...
Еропкин сурово задумался.
– Благодарю, – сказал он, тотчас опомнившись. – А из тех тысячи семисот семидесяти фабричников, что разбежались по городу, много полициею разыскано и в монастыри доставлено?
– Мало, почти никто не пойман.
Еропкин насупился. Он чувствовал, что чума гуляет по Москве, не поймать уже ее. Предстоит страшное дело и страшная борьба...
– В последующие разы, доктор, – начал он торопливо, – я вижу, что вы добрый и честный человек, так в последующие разы, когда вы будете осведомляться о ходе болезни в Симоновом и Даниловом монастырях, я вам поручаю как у подлекарей, что заперты в монастырях с фабричниками, так и у их старост доподлинно узнавайте о том, получают ли все фабричные определенную им порцию, и какова она качеством, и довольно ль все они одеты и обуты, и не имеют ли в чем какого недостатка, и не притесняет ли кто их. Так я уж на вас надеюсь.
Коляска тронулась, и Еропкин ускакал. Толпы банщиков, понурив головы, медленно расходились по домам. Веселый доктор, сообразив что-то с минуту, приказал своему вознице заворотить от Спасских ворот и ехать мимо церкви Василия Блаженного.
В это время он увидел, что к церкви подходит какая-то девушка, совсем молоденькая, но вся в черном, с траурными, неприятно режущими глаз белыми каймами на платье, глубоко задумчивая и глубоко печальная. Подойдя к церкви, она остановилась, по-видимому, в тяжкой нерешительности.
Доктор узнал ее. Доброе, круглое, лоснящееся от усталости лицо его сразу побагровело, потом побледнело, приняло горькое, тоскующее выражение... Он торопливо велел своему вознице остановиться и стремительно, шариком покатился к девушке.
– Лариса Владимировна! – грустно, не своим голосом окликнул он.
Та с удивлением и испугом остановилась. Она, казалось, не помнила, где она и что с ней.
– Вы не узнаете меня? – робко спросил доктор. Девушка опомнилась. Глаза ее, большие, черные, с длинным разрезом и как бы усталые, блеснули странным светом. Но как она изменилась с того вечера, когда гадала о суженом! Матовое, несколько смуглое, словно выточенное, лицо ее побледнело, успело из детского превратиться в лицо большой девушки. Цыганеночку она напоминала теперь только очертаниями лба и изгибами длинных бровей, но уже не глазами, в глазах было что-то слишком грустное, даже что-то большее, чем грусть...
– Нет, я узнала вас, доктор, – тихо сказала девушка. – А вы давно воротились оттуда?
В глазах ее, сквозь детское выражение, промелькнуло что-то такое, от чего веселый доктор готов был заплакать, разрыдаться. Но он пересилил себя и отвечал:
– Недавно, Лариса Владимировна. О! Тяжело вспоминать. Это...
Девушка понимала это недосказанное «это». Они думали об одном.
– Ведь он умер на моих руках, – продолжал доктор свою тяжелую исповедь.
– Да, знаю. Мне говорил Грачев.
Девушка вздохнула и задумалась. Она говорила, как будто то, о чем говорилось, еще тут вблизи где-то, да не откликается.
– Он был первый в нашей армии, на котором я увидел знаки этой проклятой болезни. Меня поздно уведомили, что он занемог.
– Да, да, – как бы думая о чем-то своем, повторяла девушка.
– Умирая, в бреду, в агонии, он шептал ваше имя и имя какой-то цыганки.
– Да, да, – повторяла девушка.
– Я догадываюсь, она передала ему заразу.
– Да, да.
Веселому доктору становится невыносимо тяжело. В первый раз в жизни он видит такое безмолвное горе и у такого молодого существа.
– Я очень жалею, что за недосугом не успел быть еще у вас. Батюшка здоров? – снова заговаривает доктор.
– Да, здоров, – все тем же упавшим голосом отвечала девушка. Потом с какой-то особой силой прибавила:– Но няня, Пахомовна, умерла...
Доктор заметил это что-то особенное в ответе и спросил:
– Чем она умерла?
– Вот... этой... – девушка не договорила.
– От кого же она могла заразиться?