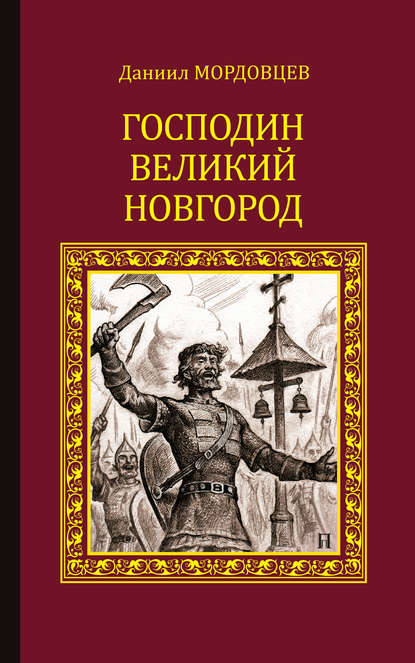По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Господин Великий Новгород (сборник)
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По узенькой тропинке старуха поднялась на берег и, поравнявшись с пришельцем, пытливо глянула ему в очи своими сверкавшими из глубоких впадин черными, сухими глазами. Острый подбородок ее шевелился сам собою, как будто бы он не принадлежал ее серьезному, сжавшемуся в бесчисленные складки лицу.
– Иди за мной, да не оглядывайся, – сказала она и повела его к ближайшей пещере, вход в которую чернелся между двух огромных камней.
Пришлец последовал за нею. Согнувшись, он вошел в темное отверстие и остановился. Старуха три раза стукнула обо что-то деревянное клюкой. Словно бы за стеной послышалось мяуканье кошки… Пришлец дрогнул и задержал дыхание, как бы боясь стука собственного сердца…
Старуха пошуршала обо что-то в темноте:
– Отворись-раскройся, моя могилка.
Что-то скрипнуло, будто дверь… Но ничего не было видно. Вдруг пришлец ощутил прикосновение к своей руке чего-то холодного и попятился было назад.
– Не бойся, иди… – Старуха потянула его за руку.
Ощупывая ногами землю, он осторожно подвинулся вперед, переступил порог… Опять мяуканье…
– Брысь-брысь, желтый глаз!
Пришлец увидел, что недалеко, как будто в углу, тлеют уголья, нисколько не освещая мрачной пещеры. Старуха бросила что-то на эти уголья, и пламя озарило на один миг подземелье. Но старуха успела: в руках ее оказалась зажженная лучина, которую она и поднесла к глиняной плошке, стоявшей на гладком большом камне среди пещеры. Светильня плошки вспыхнула, осветив все подземелье.
В один момент произошло что-то необыкновенное, страшное, от чего пришлец хотел бы тотчас же бежать, крестясь в ужасе и дрожа, но ноги отказались служить ему…
Словно бешеный замяукал и зафыркал огромный черный кот с фосфорическими желто-зелеными глазами и стал метаться из угла в угол… Какая-то большая птица, махая крыльями, задела ими по лицу обезумевшего от страха пришлеца и, сев в углубление, уставила на него свои круглые, огромные, неморгающие глаза – глаза точно у человека, а уши торчат, как у кота, – голова, как у ребенка, круглая, с загнутым книзу клювом, которым она щелкает, как зубами… Со всех сторон запорхали по пещере летучие мыши и задевали своими крючковатыми крыльями пришлеца за лицо, за уши, за волосы, которые едва ли не шевелились у него…
На жердях и веревках висели пучки всевозможных трав, цветов, кореньев… Меж ними висели сушеные лягушки, ящерицы, змеи… Страшный кот, вспрыгнув на одну из жердей, сердито фыркал и глядел своими ужасными, светящимися зеленым огнем глазами, как бы следя за каждым его вздохом…
А между тем извне в это страшное подземелье продолжали доноситься медленные, торжественные удары вечевого колокола. Казалось, что Новгород хоронит кого-то…
Старуха, что-то копавшаяся в углу, подошла к пришлецу и снова пытливо взглянула ему в глаза.
– Своей волей пришел, добрый молодец?
– Своей, бабушка.
Он испугался своего собственного голоса – это был не его голос… И кот при этом опять замяукал.
– А за каким помыслом пришел?
– Судьбу свою узнать хощу.
– Суд свой… что сужено тебе… И ейный суд?
– И ейный тако ж, бабушка… И Марфин.
– И Марфин?
– Точно… какова ее судьбина?
– Фу-фу-фу! – закачала своею седою головой старуха. – Высоко сокол летает – иде-то сядет?..
Старуха подошла к страшной птице – то была сова – и шепнула ей что-то в ухо. Сова защелкала клювом…
– А?.. На ково сердитуешь? На Марфу ци на Марфину сношеньку молодую?
Сова опять защелкала и уставила свои словно бы думающие глаза на огонь.
– Для чего разбудили старика? – обратилась вдруг старуха к пришлецу.
Тот не понял ее вопроса и молчал.
– Вече для чево звонят? – переспросила она вновь, прислушиваясь к протяжным ударам колокола.
– Гонец со Пскова пригнал с вестями.
– Знаю… Великой князь на Великой Новгород псковичей подымае и сам скоро на конь всяде…
– Ноли правда?
– Истинная… И ко мне гонцы пригнали с Москвы. Мои гонцы вернее ваших – без опасных грамот ходят по аеру[38 - По воздуху; старуха имеет в виду своих гонцов-голубей.]…
Летучие мыши продолжали носиться по пещере, цеплялись за серые камни, пищали…
– Так суд свой знать хочешь? И ейный – той, черноглазой, белогрудой ластушки?.. И Марфин?.. и Великого Новагорода?
– Ей-ей хощу.
– Болого!.. Сымай пояс.
Тот дрожащими руками распоясал на себе широкий шерстяной пояс с разводами и пышными цветными концами.
– Клади под леву пяту.
Тот повиновался… Опять послышалось невдалеке, словно бы за стеною, тихое, мелодическое женское пение.
– Что это, бабушка?
– То моя душенька играе… А топерево сыми подпояску с рубахи… В ту пору как поп тебя крестил и из купели вымал, он тебя и подпоясочкою опоясал… Сымай ее… клади под леву пяту.
Снята и шелковая малиновая подпояска и положена под левую пятку…
– Сыми топерево хрест и положь под праву пяту.
Руки, казалось, совсем не слушались, когда пришлец расстегивал ворот рубахи и снимал с шеи крест на черном гайтане[39 - Гайтан – шнурок.]… Но вот крест положен под правую пятку.
Неведомое пение продолжалось где-то, казалось, под землей. Явственно слышался и нежный голос, и даже слова знакомой песни о «Садко – богатом госте»:
И поехал Садко по Волхову,
А со Волхова в Ильмень-озеро,
А со Ильменя-ту во Ладожско,
А со Ладожска в Неву-реку,
– Иди за мной, да не оглядывайся, – сказала она и повела его к ближайшей пещере, вход в которую чернелся между двух огромных камней.
Пришлец последовал за нею. Согнувшись, он вошел в темное отверстие и остановился. Старуха три раза стукнула обо что-то деревянное клюкой. Словно бы за стеной послышалось мяуканье кошки… Пришлец дрогнул и задержал дыхание, как бы боясь стука собственного сердца…
Старуха пошуршала обо что-то в темноте:
– Отворись-раскройся, моя могилка.
Что-то скрипнуло, будто дверь… Но ничего не было видно. Вдруг пришлец ощутил прикосновение к своей руке чего-то холодного и попятился было назад.
– Не бойся, иди… – Старуха потянула его за руку.
Ощупывая ногами землю, он осторожно подвинулся вперед, переступил порог… Опять мяуканье…
– Брысь-брысь, желтый глаз!
Пришлец увидел, что недалеко, как будто в углу, тлеют уголья, нисколько не освещая мрачной пещеры. Старуха бросила что-то на эти уголья, и пламя озарило на один миг подземелье. Но старуха успела: в руках ее оказалась зажженная лучина, которую она и поднесла к глиняной плошке, стоявшей на гладком большом камне среди пещеры. Светильня плошки вспыхнула, осветив все подземелье.
В один момент произошло что-то необыкновенное, страшное, от чего пришлец хотел бы тотчас же бежать, крестясь в ужасе и дрожа, но ноги отказались служить ему…
Словно бешеный замяукал и зафыркал огромный черный кот с фосфорическими желто-зелеными глазами и стал метаться из угла в угол… Какая-то большая птица, махая крыльями, задела ими по лицу обезумевшего от страха пришлеца и, сев в углубление, уставила на него свои круглые, огромные, неморгающие глаза – глаза точно у человека, а уши торчат, как у кота, – голова, как у ребенка, круглая, с загнутым книзу клювом, которым она щелкает, как зубами… Со всех сторон запорхали по пещере летучие мыши и задевали своими крючковатыми крыльями пришлеца за лицо, за уши, за волосы, которые едва ли не шевелились у него…
На жердях и веревках висели пучки всевозможных трав, цветов, кореньев… Меж ними висели сушеные лягушки, ящерицы, змеи… Страшный кот, вспрыгнув на одну из жердей, сердито фыркал и глядел своими ужасными, светящимися зеленым огнем глазами, как бы следя за каждым его вздохом…
А между тем извне в это страшное подземелье продолжали доноситься медленные, торжественные удары вечевого колокола. Казалось, что Новгород хоронит кого-то…
Старуха, что-то копавшаяся в углу, подошла к пришлецу и снова пытливо взглянула ему в глаза.
– Своей волей пришел, добрый молодец?
– Своей, бабушка.
Он испугался своего собственного голоса – это был не его голос… И кот при этом опять замяукал.
– А за каким помыслом пришел?
– Судьбу свою узнать хощу.
– Суд свой… что сужено тебе… И ейный суд?
– И ейный тако ж, бабушка… И Марфин.
– И Марфин?
– Точно… какова ее судьбина?
– Фу-фу-фу! – закачала своею седою головой старуха. – Высоко сокол летает – иде-то сядет?..
Старуха подошла к страшной птице – то была сова – и шепнула ей что-то в ухо. Сова защелкала клювом…
– А?.. На ково сердитуешь? На Марфу ци на Марфину сношеньку молодую?
Сова опять защелкала и уставила свои словно бы думающие глаза на огонь.
– Для чего разбудили старика? – обратилась вдруг старуха к пришлецу.
Тот не понял ее вопроса и молчал.
– Вече для чево звонят? – переспросила она вновь, прислушиваясь к протяжным ударам колокола.
– Гонец со Пскова пригнал с вестями.
– Знаю… Великой князь на Великой Новгород псковичей подымае и сам скоро на конь всяде…
– Ноли правда?
– Истинная… И ко мне гонцы пригнали с Москвы. Мои гонцы вернее ваших – без опасных грамот ходят по аеру[38 - По воздуху; старуха имеет в виду своих гонцов-голубей.]…
Летучие мыши продолжали носиться по пещере, цеплялись за серые камни, пищали…
– Так суд свой знать хочешь? И ейный – той, черноглазой, белогрудой ластушки?.. И Марфин?.. и Великого Новагорода?
– Ей-ей хощу.
– Болого!.. Сымай пояс.
Тот дрожащими руками распоясал на себе широкий шерстяной пояс с разводами и пышными цветными концами.
– Клади под леву пяту.
Тот повиновался… Опять послышалось невдалеке, словно бы за стеною, тихое, мелодическое женское пение.
– Что это, бабушка?
– То моя душенька играе… А топерево сыми подпояску с рубахи… В ту пору как поп тебя крестил и из купели вымал, он тебя и подпоясочкою опоясал… Сымай ее… клади под леву пяту.
Снята и шелковая малиновая подпояска и положена под левую пятку…
– Сыми топерево хрест и положь под праву пяту.
Руки, казалось, совсем не слушались, когда пришлец расстегивал ворот рубахи и снимал с шеи крест на черном гайтане[39 - Гайтан – шнурок.]… Но вот крест положен под правую пятку.
Неведомое пение продолжалось где-то, казалось, под землей. Явственно слышался и нежный голос, и даже слова знакомой песни о «Садко – богатом госте»:
И поехал Садко по Волхову,
А со Волхова в Ильмень-озеро,
А со Ильменя-ту во Ладожско,
А со Ладожска в Неву-реку,