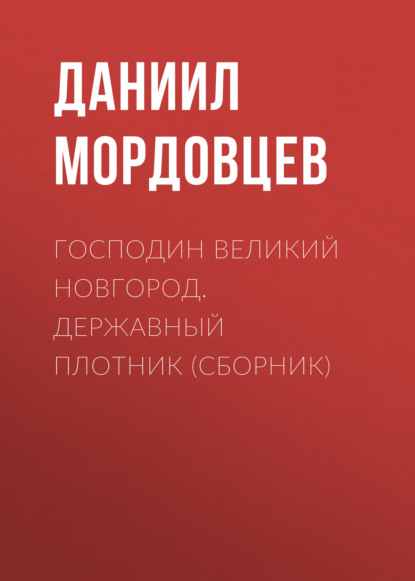По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Господин Великий Новгород. Державный Плотник (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Великий князь умолк, сделал неопределенный знак рукой и, шурша шелками своего одеяния, вышел в другую палату.
Новгородцы стояли в каком-то оцепенении. Суровый попрек на все их моления и слезы – и больше ничего… С чем же они воротятся в Новгород? Что скажут городу? С чем явятся на вече?
Владыка беспомощно перекрестился:
– Господи! Не яко же мы хощемы, но яко же хощеши Ты…
К ним подошел Степан Бородатый и лукаво глянул на своих московских бояр: «Мекайте-де: я им загну калач московский – не разогнуть»…
– Не попригожу вы, отцы и братие, челом бьете, – таинственно сказал он новгородцам. – И как вас великому государю на том челобитье жаловать? Не попригожу…
– Почто не попригожу? – удивился владыка.
– Мекайте сами, – загадочно ответил Бородатый. – А захочет Великий Новгород бить челом – и он знает, как ему бить челом.
На слове как он сделал ударение. В этом ударении слышалось что-то роковое для Новгорода, грозное, зловещее – бесповоротное решение его судьбы.
Послы оставались в стане – не отпускали…
А Новгород между тем ждал их возвращения. Что там происходило – того и старец Нафанаил, последний новгородский летописец, не в силах был передать: «За слезами убо не видел ни листа, на чем писать, ниже куда тростию скорописного мокать»…
В отчаянии новгородцы все еще укреплялись, насыпали валы острожные и из мертвых, не доеденных собаками и воронами тел человеческих, прикрытых кое-как мерзлою землею, делали себе бойницы и засеки…
Вече уже не собиралось, а вечевая площадь и все улицы так просто стонали голосами. Вечевой звонарь все это видел и, сидя под колоколом, коченеющими руками шил себе саван.
Марфа надела суровую власяницу на свое нежное, пухлое тело и ходила по больным и умирающим, разнося им милостыню успокоения «ради души болярина Димитрия», старшего своего сына, и «новопреставленнаго» болярина Федора, младшего сына, о котором она узнала, что он умер в заточении, где-то в далеком Муроме… Как горькое безумие прошлого, она часто вспоминала о князе Олельковиче и представляла княжескую корону на своей седой голове… «О, суета суетствий!..» А как сладка была эта суета…
Послы все томились в московском стане, моля допустить их вновь на очи великого князя. Вместо князя к ним являлся Степан Бородатый.
– Не попригожу, не попригожу бьете челом, – твердил он новгородцам. – Для чего вы отпираетесь от тово, с чем приезжали на Москву Захар да Назар, и не объявили, каково государства хотите вы, и тем возложили на великаго государя ложь.
– Мы не лгали, – оправдывались новгородцы.
– А не лгали, так не попригожу бьете челом… А восхощет Великий Новгород великим князем бить челом – и он сам знает, как бить челом…
Новгородцы, наконец, с отчаянья повинились в том, в чем никогда не были виновны: приняли на себя личную вину Захара да Назара, которыми им постоянно кололи глаза.
– Мы винимся в том, что посылали Назара и Захара и перед послами великаго князя заперлись, – проговорили они свой приговор.
Бояре пошли к великому князю и вскоре воротились от него с ответом.
– А коли вы, – отвечал он через бояр, – коли вы, владыка и вся отчина моя, Великий Новгород, пред нами, великими князи, виноватыми сказались и сами на себя свидетельствуете и спрашиваете, какого государства мы хотим…
– Мы о сем не спрашивали и не спрашиваем, – перебил боярина один из новгородцев.
– Не перебивай слово государево, – сердито остановил его Бородатый. – Слово государево что литургия – перебивать не годится.
Боярин продолжал: «…и спрашиваете – какого государства в нашей отчине, Великом Новгороде, как у нас в Москве…»
Новгородцы в отчаянье опустили руки. «Заставили-таки принести на себя веревку и свить мертвую петлю! О московское лукавство!» – колотилось в сердце у владыки; но он смолчал.
Тогда новгородцы решились на последнее средство: подействовать на алчность московскую. Они по опыту знали, что это была за бездонная копилка – «казна осударева», как на Москве любили изречение из нового московского евангелия: «Чтобы нашей осударевой казне было поприбыльнее».
– Пускай бы великий князь, – предложили они, – брал с нас на каждый год со всякой сохи по полугривне, держал бы наместников своих и в пригородах, как в Новгороде, токмо чтоб суд был по старине, не было бы вывода людей из новгородской земли и на службу в низовскую землю новогородцев не посылали бы. А мы ради боронить рубежи, что сошлись с новгородскими землями… Да чтоб великий князь в боярские наши вотчины не вступался.
Опять бояре толкнулись к великому князю и опять вынесли суровую отповедь. Вот слова великого князя:
– Я сказал вам, что мы хотим такого государства, какое в нашей низовской земле – на Москве; а вы нынче сами мне указываете и чините урок нашему государству… «Так что ж это за государство!»
Ничто не помогало! Одно слово – налагай на себя руки! Но и в петле все еще есть надежда…
– Мы не учиняем урока государства своим государям, великим князьям! – в отчаянье всплеснул руками владыка. – Ино Великий Новгород низовскаго обычая не знает – как наши государи, великие князья, держат там, в низовской земле, свое государство?
Почва уходила из-под ног несчастных: они уже сами говорят – «наши государи». А давно ли за одно это слово разнесли на подошвах сапог и лаптей кровавые клочки тел посадника Василия Ананьина, да вечного дьяка Захара, да подвойского Назара, а остатки их и волосы, смешанные с грязью, вечевой звонарь защищал от своего прожорливого ворона.
А теперь уж все пропало – не до слов больше… Государи так государи – все равно! Новгород уж умер.
– Нету послов, нету! – с тоской посматривал звонарь на московский стан. – Померли они, чи и им головы урезали?
И он, словно потерявший рассудок, обращался к ворону:
– Полети, сынок, полети, воронушко, принеси от них висточку…
– Со свя-тыми упо-кой! – раздавался по улицам Новгорода погребальный гимн.
Это пел слепой Тихик: он хоронил новгородскую волю, а сам плакал… И что ему, слепому нищему, была новгородская воля! А все жаль… Да вот и мне, пишущему это через четыреста лет после того, как она прошла и быльем поросла, жаль ее!
Но ворон не приносил звонарю весточки. Ее принесла кудесница, та старая кудесница, что жила за городом в каменоломнях. Она, как знахарка, бродила по московскому стану, и там ее все знали.
И вот как она все узнала. На Святках, гуляя у князя Холмского, Степан Бородатый хватил через край – перепил маленько. После этого у него сделался «чемер» – болезнь эдакая московская. Так кудесница у него якобы «чемер срывала», а может, была у него и по другим делам. От него она все узнала и рассказала звонарю, своему старому знакомому.
– Впустили это наших к нему, – рассказывала она, – а ен сидит на золотом столе, золоту палку в руках держит… А глазищи у ево во каки… А вокруг ево боляре тихеньки-претихеньки, словно песики махоньки… А наши-то стоят и плачут. А он и возговорить, точно вечной колокол…
– Ну уж, бабка, – обиделся старик, – далеко ему до колокола.
– Ну, не как вечной, а как юрьевской… Ен и молвит: «Отдайте мне Марфу-посадницу, тогда я отдам вам нелюбье мое».
Дело было однако же не совсем так. Истомивши послов напрасным ожиданьем, великий князь велел, наконец, пустить их к себе на очи.
Когда послы вошли, то Иван Васильевич, ласково взглянув на них, что с ним редко бывало, подошел к владыке под благословение и, стоя среди палаты, сказал свое последнее, роковое решение:
– Вы мне бьете челом, – произнес он с своею обычною точностью, – чтобы я вам явил, как нашему государству быть в нашей отчине, Великом Новгороде. Ино ведайте – наше государство таково: вечу и колоколу в Новегороде не быть.
Некоторые послы отшатнулись и перекрестились…
– Посаднику не быть…
Он помолчал. В палате, казалось, никто не дышал. Только у владыки хрустнули пальцы…