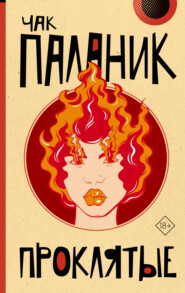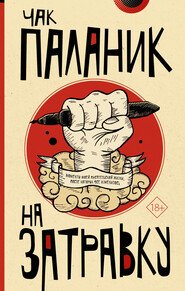По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дневник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ты ответил:
– Синие.
Просто чтоб ты знал: в Питера Уилмота было нелегко влюбиться.
В тебя.
Мисти спросила:
– Откуда она?
И Питер слегка покачал головой, усмехаясь в пол. Потом пожевал нижнюю губу. Оглянулся на несколько людей, еще оставшихся в галерее, сощурил глаза, а потом поднял их на Мисти и спросил:
– Обещаешь, что тебя не заколбасит, если я тебе кое-что покажу?
Она оглянулась через плечо на подруг: те стояли у картины в другом конце зала, но наблюдали за ними.
А Питер прошептал, не отрывая задницы от стены, он наклонился к ней и прошептал:
– Чтобы создавать настоящее искусство, нужно страдать.
Просто чтоб ты знал: однажды Питер спросил Мисти, понимает ли она, почему ей нравятся именно те произведения искусства, а не иные. Почему отвратительная сцена побоища, вроде «Герники» Пикассо, может быть прекрасна, а изображение двух единорогов, целующихся в цветочном саду, выглядит полным дерьмом.
Кто-нибудь вообще понимает, почему ему что-то нравится?
Почему люди вообще что-то делают?
Там, в галерее, под шпионским взглядом подруг, одна из картин наверняка была Питера, и Мисти сказала:
– Ага. Покажи мне настоящее искусство.
И Питер глотнул своего пива и вручил ей пластиковый стакан. Он сказал:
– Помни. Ты обещала.
Обеими руками он схватился за рваный подол своего свитера и приподнял. Так поднимается театральный занавес. Или паранджа. Из-под свитера показался тощий живот с дорожкой волос посредине. Потом пупок. Потом волосы разошлись вокруг двух розовых, еле видных сосков.
Свитер скрыл лицо Питера и остановился. Один сосок торчал длинным острием, красный и весь в струпьях, пристал к старому свитеру с изнанки.
– Видишь, – глухо сказал голос Питера, – брошь проколола мне сосок.
Кто-то вскрикнул. Мисти оглянулась на подруг. Выронила пластиковый стакан, и на полу взорвалось пиво.
Питер опустил свитер и сказал:
– Ты обещала.
Это была она.
Ржавая булавка вонзилась в край одного соска, проколола мясо под ним и вышла с другой стороны. Кожа вокруг была измазана кровью, волоски слиплись от спекшихся бурых комьев.
Это была Мисти. Это она кричала.
– Каждый день я протыкаю его заново, – сказал Питер и наклонился за стаканом. – Чтобы каждый день чувствовать новую боль.
Теперь она заметила, что свитер вокруг броши затвердел и потемнел от крови. И все-таки они в колледже искусств. Она видала чудиков и похлеще. Или нет?
– Ты, – произнесла Мисти, – ты чокнутый. – То ли от шока, то ли от чего-то еще она рассмеялась: – Нет, честно! Ты мерзкий.
Ее ноги в босоножках, липкие, забрызганные пивом.
Кто знает, почему нам нравится то, что нам нравится?
А Питер спросил:
– Ты слышала о художнице по имени Мора Кинкейд? – Он покрутил брошь, та блеснула в дневном свете галереи. Потекла кровь. – Или о школе острова Уэйтенси?
Почему мы делаем то, что мы делаем?
Мисти оглянулась на подруг; те поднимали брови, готовые прийти на помощь.
Мисти посмотрела на Питера и сказала:
– Меня зовут Мисти, – и протянула руку.
Медленно, не спуская с нее глаз, он поднял руку и расстегнул брошь. Его лицо сморщилось, все мышцы на секунду напряглись. Глаза будто стянуло морщинами, когда он вытащил длинную булавку из свитера. Из своей груди.
Из твоей груди. Всю в твоей крови.
Он с щелчком застегнул застежку и положил брошь Мисти на ладонь.
И спросил:
– Ну, хочешь выйти за меня?
Он сказал это с вызовом, словно нарывался на драку, словно бросал ей перчатку. Словно брал ее на слабо. Или приглашал на дуэль. Его глаза охватили ее всю: волосы, грудь, ноги, руки, будто Мисти Клейнман – все, что будет у него до конца жизни.
Дорогой, милый Питер, чувствуешь?
И эта маленькая идиотка из трейлер-парка – она взяла брошь.
3 июля
Энджел говорит ей сжать руку в кулак.
– Вытяни указательный палец, будто хочешь поковырять в носу.
Он берет Мисти за руку и держит так, чтобы торчащий палец чуть касался черной краски на стене. Энджел прослеживает дорожку черной напыленной краски, обрывки предложений и каракули, потеки и кляксы, а потом говорит: