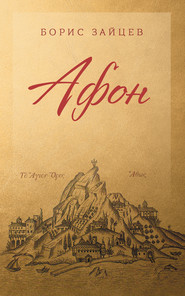По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шестидесятые годы
…Тургенева всегда раздражала неустроенность и «отсталость» России – деспотическое правительство, крепостное право. С ранних лет стал он западником. Преклонился перед более культурным государственным устройством, перед большей свободой общества. Настолько преклонился, что иной раз недалеко оказывался от заурядного либерала. Величайшей глубины России – ее религий – почти не чувствовал. Вернее, разумом не признавал: некий «Вестник Европы» заслонял ему ее (а сердце по временам давало удивительные образы святой Руси). Он Гоголя мало знал лично. Литературно ценил его высоко, но при близком знакомстве, конечно, разошелся бы. Славянофилов всегда не любил… Но с Аксаковым-патриархом находился в добрых отношениях – правда, больше из-за охоты. Собирался сблизиться с Константином Аксаковым в пятидесятых годах, да не вышло. Вера Сергеевна Аксакова записала о Тургеневе, навещавшем их в Абрамцеве, тяжелые вещи: он казался ей недуховным, лишь слегка склонным к «душевности». Человеком ощущений, утопающим в гастрономии. По ее взгляду, он и художество чувствовал физически – вроде вкусного блюда. Духовное же шло мимо.
В семье Аксаковых была теплота, свет, связанные с их глубокохристианским складом. Тургенев несколько иной – прохладней, это верно. Сойтись они не могли. Но Вера Сергеевна не права, отрицая в нем запредельный порыв. Только мистика его не православна. Магическое, таинственно-колдовское наиболее его влекло.
Из-за «разумного» своего западничества разошелся Тургенев со многими писателями, крупнейшими: Толстым, Достоевским, Тютчевым, Фетом, даже с Герценом (не считая славянофилов). Тут оказался упорен, последователен: как западная Виардо прошла через всю его сердечную жизнь, так тепловатый либерализм не оставил его ума. Он признавал очень правильные и разумные вещи: гуманность, просвещение, свободу, «дельных» и «честных» людей, «надо работать», все потугинские благонамеренные рассуждения, вплоть до пользы железных дорог и необходимости реформ. Но не этим истинно себя украсил.
Время шло. Выигрывала ставка Тургенева: наступили шестидесятые годы, сменялось царствование императора Николая более мягким – Александра II. Готовилось освобождение крестьян, судебные реформы. Стали появляться и имели успех люди, возросшие на французской революции и европейском позитивизме. «Дворянское гнездо» уходило. Нельзя было его задерживать. Жизнь надвигалась, двуликая и трагическая. Одной рукой руша рабство, давая справедливый суд, отменяя шпицрутены, другой – внося яд мелких идеек, создавая ничтожества, улицу, шумно лезшую в литературу. Шестидесятые годы! Молодость наших отцов, «время великих реформ» – и оплевывания Пушкина, непонимания Толстого, Фета, Достоевского, время торжествующего нигилизма, Базаровых, «Бесов», Нечаева.
Странно отозвались шестидесятые годы на судьбе Тургенева. Ему хотелось отвечать времени. Толстой и Достоевский шли наперекор и – одолели. Тургенев более поддавался, да как раз этих времен и ждал, правда в более мягком облике (как мы революцию). Дождался его же и задушивших. Частью и талант свой направил на трудные, художнически невыгодные пути. Получил здесь шумную славу и великие поношения.
Первый его «общественный» роман – «Накануне», вещь с большими поэтическими достоинствами и некоей зажигательностью. «Тургеневская» девушка выходит наконец из «гнезда», бросает дом, родителей и, увлеченная борцом за освобождение родины, отдается подвигу.
Тургенев попал здесь в точку: не одна провинциальная девица, сходясь с каким-нибудь нигилистом, воображала себя Еленой. Роман вызвал одобрение одной части публики (молодежь, интеллигенция), недовольство другой. Из светских друзей Тургенева графиня Ламберт так порицала произведение, что автор собирался рвать рукопись.
Главные огорчения ждали его, однако, не справа – от графинь, а слева – от критики. Тургенев «природно» не нравился новой породе в литературе – маленьким, бесталанным Белинским. Удивительное дело: они появились в том самом «Современнике», который Тургенев и создавал. За двенадцать лет «Современник» занял в литературе место крупное. Его редактором был Некрасов – замечательный, высокоталантливый плебей из дворян, Некрасов острый и умный, оборотистый и темный, пронзительный и двусмысленный, почти гениальный в народной сути своей, порочный, но и рыдательный, проживших! нечистую жизнь, глубоко страдавший, ловивший момент и невыигравший, поэт, журналист, делец, человек, которого первые люди времени называли «мерзавцем», – и автор «Власа», «Рыцаря на час»… Нет в русской литературе фигуры, более дающий облик славы и падения, возношения и презренья.
Тургенев долго был с ним приятелем, на «ты», писал ему вещи интимные. Шестидесятые годы развели их. Развело «Накануне» – будто бы внешне, но истинная причина глубже. Некрасов вполне объединился с «семинарами», Тургенев навсегда остался художником-барином. Тургенев любил Фета, выдвигал Тютчева – тончайшие блюда поэзии. От некрасовских стихов отзывало для него тиной, «как от леща или карпа». В зрелом развитии эти два человека не могли быть вместе.
И не зря пришло «внешнее» (то, что «Накануне» со всею своею зажигательностью оказалось не в «Современнике», где писали Чернышевский и Добролюбов, а в «Русском вестнике» у Каткова). Новых людей, «разночинцев», весьма лево устремленных, не мог не раздражать Тургенев своею барственностью, громадной просвещенностью, избалованностью, красноречием, французским языком салонов XVIII века, изяществом одежды, гастрономией, легким пришепетыванием – может быть, небрежной снисходительностью иногда, тоном «сверху вниз». А его задевало плебейство их, невоспитанность, грязные ногти, самоуверенность, иногда прямо наглость. (Добролюбов – один из наиболее порядочных среди них – мог позволить себе фразу: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить», встал и перешел на другую сторону комнаты.)
«Накануне» появилось в январской книжке «Русского вестника» 1860 г. – и тотчас начался обстрел в «Современнике». В мартовском номере статья Добролюбова, где утверждалось, что Тургеневу не хватает таланта для такой темы и вообще нет «ясного понимания вещей». В апрельской – насмешки над только что появившеюся «Первою любовью». (Чернышевский же упрекал Тургенева в том, что в угоду богатым и влиятельным друзьям он окарикатурил Бакунина в «Рудине».)
Нравы юмористики того времени невысоки. В «Искре» Курочкин писал: «Людская пошлость заявляет, что в следующем году она будет угощать почтеннейшую публику – Фетом, балетом, паштетом и вновь – Бертами, Минами, Фринами». «Свисток» (юмористический отдел «Современника») глумился над жизнью Тургенева. Первый русский писатель переживал самые черные времена сердца, а некрасовские «писатели» смеялись над тем, что он «следует в хвосте странствующей певицы» и «устраивает ей овации на подмостках провинциальных театров за границей». К концу года они так осмелели, что в объявлении о подписке на «Современник» 1861 г. заявили, что отказываются от сотрудничества автора «Записок охотника», ибо «расходятся с ним в убеждениях» (Некрасов только что заманивал его к себе, предлагал большие деньги за роман и т. п.!). И это лишь начало. Тургеневу предстояло пройти сквозь строй: в 61-м году он окончил «Отцов и детей». На следующий год роман появился в том же «Русском вестнике».
В тургеневской литературной жизни ничего не было равного «Отцам и детям» по шуму. «Тихий» Тургенев оказался вполне на базаре. Причины тому ясны. В романе клубилась, кипела современность. Отойдя от недр своих, питавших в нем поэта, Тургенев попробовал изобразить «героя нашего времени» внешне. Лермонтов не то чтобы писал Печорина, Печорин сам всплывал из него. Тургенев дал Базарова «со стороны», точный, верный и умный портрет. Но сердце его не могло быть с первым в нашей литературе большевиком. Не было и великого гнева Достоевского. Тургеневу просто хотелось быть справедливым и наблюдательным. Он отнесся к Базарову как ученый – глубины Тургенева этот Базаров, нигилист и отрицатель, никак не задевал.
Роман получился замечательный, но без обаяния. В нем новый человек показан ярко (хотя и смягченно)… и ни тепло от него, ни холодно. Вернее – прохладно, хотя Базаров умирает и очень трогательно, самая смерть его волновала автора.
Поднялись вопли. Молодежь обиделась. Разные гейдельбергские студенты собирали собрания, автора судили, выносили резолюции, писали ругательные письма. «Современник» был в восторге, что можно лишний раз лягнуть. Некий Антонович «тиснул» статью «Асмодей нашего времени» – с бранью на Тургенева.
Автор страдал, пытался что-то объяснить, но ничего, конечно, изменить не мог: не подходил он к людям, наполнявшим своим шумом, нигилизмами, «эмансипациями» преддверие освобождения крестьян. В некотором роде он их и взращивал. Теперь грызли его они же. Они же и отвлекали от влажного, женственного в литературе – истинно-тургеневской стихии.
* * *
Елизавета Георгиевна Ламберт (дочь графа Канкрина, в замужестве за блестящим адъютантом молодого наследника – гр. Иосифом Ламберт) появилась в жизни Тургенева к концу пятидесятых годов, в самое трудное для него время.
Известно о ней мало. Виардо много знаменитее ее, да и то виардовских писем не сохранилось. Елизавету Георгиевну можно почувствовать лишь сквозь письма Тургенева (к ней). Это дает ее облику черту летейской тени. Ее не видно и не слышно. Она за сценой. Говорит всегда Тургенев. То, что говорит и как говорит, – косвенно, нежно и туманно изображает ее самое.
Была ли она красива? Сомневаюсь. Была ли счастливой, довольной? Бесспорно нет. Натура благородная и строгая, чистая и незадачливая, явилась она для Тургенева «утешительницей», изящным другом. Ей да верному своему Анненкову писал он самые задушевные о себе вещи еще из Италии, в 57–58-м гг. В Петербурге (тогда же и в шестидесятых годах) часто бывал у нее на Фурштадтской – целыми вечерами сидел в будуаре, и беседовали они, – об этих свиданиях не раз вспоминает он почти с нежностью. Нечто от бледного, дорогого дагерротипа есть в ощущении от графини Ламберт – всегда с присутствием грусти. Женщина с какими-то своими сердечными ранами. Когда болели раны Тургенева, он в ней находил сотоварища. Одинаково томившиеся, они хорошо понимали друг друга. Решали вопрос о жизни «без счастия» – вечный и безнадежный вопрос! – но Тургеневу приходилось еще труднее: у графини, по крайней мере, была вера (не единственный ли вблизи него верующий человек, со сложною внутренней жизнью?). Но и ее положение не совсем легко. Ее дружественность к нему готова была, временами, прорваться и в большее: но не встречала ответа.
Близость душевная была довольно большой. «Помните, как вы плакали однажды? Я напоминаю это вовсе не для того, чтобы подтрунить над вами, что ли, нет, сохрани Бог. Не слезы ваши меня трогали, а то, что вы могли и не стыдились плакать» – светская женщина, очень чинная, при нем, однако, плакала. Это писано в 1859 году, когда сам он, отмучившись первыми, горькими страданиями из-за Виардо, все-таки никак смеяться не мог.
Он живет то в Спасском, то во Франции, пишет из Куртавенеля, из «грязного городишки Виши», из Москвы, из самого Петербурга. Душевно как-то «мотается», пристанища у него нет, тонкие руки графини Ламберт для него некоторое успокоение (Тургенев любил красивые женские руки). Облегчало и то, что он видел участие к себе прекрасной, изящной женщины (но не той, которая нужна!).
«С радостью думаю о вечерах, которые буду проводить нынешнею зимою в вашей милой комнате. Посмотрите, как мы будем хорошо вести себя, тихо, спокойно – как дети на Страстной неделе. За себя я отвечаю».
Значит, не всегда было «тихо и спокойно»? Он как будто сам чувствует смелость фразы и добавляет: «Я хотел только сказать, что вы моложе меня».
Это письмо как раз из Куртавенеля. Там он созерцал гроб своего прошлого. «Не чувство во мне умерло, нет, но возможность его осуществления. Я гляжу на свое счастье, как я гляжу на свою молодость, на молодость и счастье другого; я здесь, а все это там; и между этим здесь и этим там – бездна, которую не наполнит ничто и никогда в целую вечность. Остается держаться пока на волнах жизни и думать о пристани, да отыскав товарища дорогого и милого, как вы, товарища по чувствам, по мыслям и, главное, – по положению (мы оба с вами уже немного ждем для себя), крепко держать его руку и плыть вместе, пока…»
Вот что в нем было, когда задумывалось «Накануне», когда близились шестидесятые годы, освобождение крестьян, осуществление его же собственных надежд и когда начинался весь шум его романов с «общественным» содержанием.
В октябре того же 59-го г. получил он в Спасском от графини письмо более нежное, чем обычно. («Какое странное, милое, горячее и печальное письмо – точно те короткие, нешумные летние грозы, после которых все в природе еще более томится и млеет».) Здесь же – первый упрек (вернее – мягкое указание), что он начинает с нею скучать. Тургенев это отвергает. Нет, не скучает нисколько. И не может так быть, ибо есть на свете только два существа, которые он любит больше, чем ее: «одно потому, что она моя дочь, другое потому… Вы знаете, почему».
Переписка оживляется, разрастается. Вот остановился Тургенев в Москве, у приятеля своего Маслова, в Удельной Конторе на Пречистенском бульваре (чудесный особняк!). Морозы, ухабы, милый московский иней на деревьях, розовое солнце… Он захворал, у него горло простужено. Маслов почтительно за ним ухаживает. Конечно, Тургенев мнителен и избалован – так ясно чувствуешь все эти пледы, в которые он кутается, туфли, микстуры, все его страхи, томные жалобы, возню с докторами. Видны и завсегдатаи: Фет, Борисов, Николай Толстой. В промежутках успевает он познакомиться с двумя-тремя дамами («два, три интересных женских существа»). Держит корректуру «Накануне» – это январь 1860 года. «Я вас не забывал все время – и все-таки не писал вам. Примиряйте, как умеете, это противоречие». В сущности, графиня не могла жаловаться. Он и с Виардо иногда так поступал: помнил, но не писал… Правда, за это и поплатился.
Из Москвы вернулся он в Петербург и все кашляет, все хандрит, возится с докторами, не может приехать к Ламберт – не выпускают на улицу; переписывается с ней записочками – не без элегии и кокетливости. Она рассказывает ему о своих снах, называет балованным ребенком… а он успел уже познакомиться «с одной молодой милой женщиной восемнадцати лет, русской, рожденной в Италии, которая плохо знает по-русски» – и сейчас же предложил ей читать вместе Пушкина. (Очень вообще любил читать вслух дамам.)
Но в Петербурге долго не засиживается – опять Запад – Париж, Соден, Висбаден. Виардо все время в тени, за сценой, все время больное место. Тургенев совсем не на якоре, его покачивает на зыби, – один ветер тянет туда, другой сюда, ветры несильные и никак его не задевающие. Но главное направление (лишь дружеское) все же на графиню Ламберт. (От скуки, однако, болтает часами в Содене с соседкой. Провожая «одну даму» в Швальбах, заехал в Висбаден. Дама эта – писательница Марко Вовчок. С нею он тоже, конечно, немало разговаривал и читал.)
Так и следишь, живешь двумя ушедшими жизнями. Одна в другой отражается. Вот опять зима, начинается Париж, всегда для Тургенева тяжелый, незадачливый. Растравляется сердце, вновь близок источник страданий, вновь горечь, глубокая грусть и серьезность. «Да, сверх того, на днях мое сердце умерло. Сообщаю вам этот факт. Как его назвать, не знаю. Вы понимаете, что я хочу сказать. Прошедшее отделилось от меня окончательно, но, расставшись с ним, я увидал, что у меня ничего не осталось, что вся моя жизнь отделилась с ним. Тяжело мне было, но я скоро окаменел. И я чувствую теперь, что так жить еще можно. Вот если бы снова возродилась малейшая надежда возврата, она потрясла бы меня до основания» (декабрь 1860-го).
Приближалось освобождение крестьян (манифест 19 февраля 1861 г.) – то, из-за чего давал Тургенев некогда аннибалову клятву. Под звук колоколов, возвещавших освобождение, писал он: «Несомненно и ясно на земле только несчастье». К этому надо прибавить, что только что выпустил «Первую любовь» – уж действительно «для себя», не для публики: вовремя вспомнил историю юношеской своей, высокой и неразделенной любви.
Графиня Ламберт собралась в Тихвинский монастырь под Калугою. Жила там некоторое время, занесенная снегом, в тишине служб, размеренною, чистой монастырской жизнью. Эту жизнь Тургенев не совсем понимал. Она казалась ему «холодной, печальной», хотя и находил он ее «приятной». Как человек глубоко светский, представлял себе монашество могилой (не знал, что в духовной жизни есть именно радость). Но успокоение, так самому ему нужное, все-таки чувствовал.
«Я уверен, что самый стук башмаков монахини, когда она идет по каменному полу коридора в церковь молиться, ей говорит что-то… И это что-то, если не убивает, не душит человеческое, нетерпеливое сердце, должно дать ему невыразимое спокойствие и даже живучесть».
Он был гораздо более одинок, чем графиня. Она, как и те скромные тихвинские монахини, знала, что кроме несомненности несчастия есть несомненность Истины.
* * *
Жизнь дочери Тургенева слагалась неестественно. Рожденная от «рабыни», девочка сразу оказалась не к месту. Рано оторвали ее от матери, родины. Дом Виардо не дал ласки. Отца она мало знала. Он ничего для нее не жалел, учил, воспитывал, нанимал гувернанток – все это считал «долгом»; так же, через несколько лет, выдал замуж. В сущности же она ему ни к чему. Все его заботы о ней внешни, ничем не согреты. А потому бесполезны.
Подросши, Полина маленькая стала ревновать отца к Полине взрослой. Его это раздражало. Он писал ей ласковые письма, в которых не так много ласки, и нередко – упрек. Графине же Ламберт признался, что между ним и дочерью («хотя она и прекрасная девушка») мало общего. Она не любит ни музыки, ни поэзии, ни природы, ни собак, и он относится к ней, как к Инсарову: «я ее уважаю, а этого мало».
Дочь была в некотором смысле грехом Тургенева – в этом грехе он держался безупречно… но сердца своего не дал. Оттенок кары лег на их отношения.
В мае 1861 г. гостил у Тургенева в Спасском Толстой. (Друг друга они не любили, но и влекло их друг к другу.) Собрались в гости к Фету, незадолго пред тем купившему именьице Степановку – там выстроил он новый дом и обзаводился хозяйством. Приехали в добром настроении. Отправились с хозяином в рощицу, лежали на опушке, много оживленно разговаривали. Затем пили чай, ужинали – все как полагается. Остались ночевать. Фету с женой пришлось даже потесниться: дом был невелик.
Утром вышли Тургенев с Толстым к чаю, в столовую… быть может, встав с левой ноги (оба и вообще-то капризные). Уселись – Тургенев справа от хозяйки, Толстой слева. Бородатый, загорелый Фет с узкими глазками, полный посевов, забот о вывозе навоза, о каких-нибудь жеребятах, – на противоположной стороне стола. Жена Фета спросила Тургенева о его дочери. Он стал расхваливать ее гувернантку, г-жу Иннис, которая просила его установить точную сумму, какую дочь может расходовать на благотворительность. Кроме того, она заставляет ее брать на дом белье бедняков, чинить и возвращать выштопанным.
Толстой сразу рассердился.
– И вы считаете это хорошим?
– Конечно, это сближает благотворительницу с насущной нуждой.
В Толстом именно в эту минуту в свежесрубленной, пахшей сосною столовой Фета проснулось тяжелое упрямство, связанное с неуважением к собеседнику.
– А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.
Тон его был невыносим. Любил Тургенев или не любил свою дочь – это его дело. Толстой же посмеялся над бедной Полиной, да и над отцом. Этого Тургенев не мог вынести.
Дальше все поразительно – для Тургенева, мягкого, светски воспитанного, почти непонятно. Будто в одно из редких мгновений прорвалась в нем материнская кровь (тяжелый костыль, которым чуть не убила Варвара Петровна дворецкого).
После возгласа:
…Тургенева всегда раздражала неустроенность и «отсталость» России – деспотическое правительство, крепостное право. С ранних лет стал он западником. Преклонился перед более культурным государственным устройством, перед большей свободой общества. Настолько преклонился, что иной раз недалеко оказывался от заурядного либерала. Величайшей глубины России – ее религий – почти не чувствовал. Вернее, разумом не признавал: некий «Вестник Европы» заслонял ему ее (а сердце по временам давало удивительные образы святой Руси). Он Гоголя мало знал лично. Литературно ценил его высоко, но при близком знакомстве, конечно, разошелся бы. Славянофилов всегда не любил… Но с Аксаковым-патриархом находился в добрых отношениях – правда, больше из-за охоты. Собирался сблизиться с Константином Аксаковым в пятидесятых годах, да не вышло. Вера Сергеевна Аксакова записала о Тургеневе, навещавшем их в Абрамцеве, тяжелые вещи: он казался ей недуховным, лишь слегка склонным к «душевности». Человеком ощущений, утопающим в гастрономии. По ее взгляду, он и художество чувствовал физически – вроде вкусного блюда. Духовное же шло мимо.
В семье Аксаковых была теплота, свет, связанные с их глубокохристианским складом. Тургенев несколько иной – прохладней, это верно. Сойтись они не могли. Но Вера Сергеевна не права, отрицая в нем запредельный порыв. Только мистика его не православна. Магическое, таинственно-колдовское наиболее его влекло.
Из-за «разумного» своего западничества разошелся Тургенев со многими писателями, крупнейшими: Толстым, Достоевским, Тютчевым, Фетом, даже с Герценом (не считая славянофилов). Тут оказался упорен, последователен: как западная Виардо прошла через всю его сердечную жизнь, так тепловатый либерализм не оставил его ума. Он признавал очень правильные и разумные вещи: гуманность, просвещение, свободу, «дельных» и «честных» людей, «надо работать», все потугинские благонамеренные рассуждения, вплоть до пользы железных дорог и необходимости реформ. Но не этим истинно себя украсил.
Время шло. Выигрывала ставка Тургенева: наступили шестидесятые годы, сменялось царствование императора Николая более мягким – Александра II. Готовилось освобождение крестьян, судебные реформы. Стали появляться и имели успех люди, возросшие на французской революции и европейском позитивизме. «Дворянское гнездо» уходило. Нельзя было его задерживать. Жизнь надвигалась, двуликая и трагическая. Одной рукой руша рабство, давая справедливый суд, отменяя шпицрутены, другой – внося яд мелких идеек, создавая ничтожества, улицу, шумно лезшую в литературу. Шестидесятые годы! Молодость наших отцов, «время великих реформ» – и оплевывания Пушкина, непонимания Толстого, Фета, Достоевского, время торжествующего нигилизма, Базаровых, «Бесов», Нечаева.
Странно отозвались шестидесятые годы на судьбе Тургенева. Ему хотелось отвечать времени. Толстой и Достоевский шли наперекор и – одолели. Тургенев более поддавался, да как раз этих времен и ждал, правда в более мягком облике (как мы революцию). Дождался его же и задушивших. Частью и талант свой направил на трудные, художнически невыгодные пути. Получил здесь шумную славу и великие поношения.
Первый его «общественный» роман – «Накануне», вещь с большими поэтическими достоинствами и некоей зажигательностью. «Тургеневская» девушка выходит наконец из «гнезда», бросает дом, родителей и, увлеченная борцом за освобождение родины, отдается подвигу.
Тургенев попал здесь в точку: не одна провинциальная девица, сходясь с каким-нибудь нигилистом, воображала себя Еленой. Роман вызвал одобрение одной части публики (молодежь, интеллигенция), недовольство другой. Из светских друзей Тургенева графиня Ламберт так порицала произведение, что автор собирался рвать рукопись.
Главные огорчения ждали его, однако, не справа – от графинь, а слева – от критики. Тургенев «природно» не нравился новой породе в литературе – маленьким, бесталанным Белинским. Удивительное дело: они появились в том самом «Современнике», который Тургенев и создавал. За двенадцать лет «Современник» занял в литературе место крупное. Его редактором был Некрасов – замечательный, высокоталантливый плебей из дворян, Некрасов острый и умный, оборотистый и темный, пронзительный и двусмысленный, почти гениальный в народной сути своей, порочный, но и рыдательный, проживших! нечистую жизнь, глубоко страдавший, ловивший момент и невыигравший, поэт, журналист, делец, человек, которого первые люди времени называли «мерзавцем», – и автор «Власа», «Рыцаря на час»… Нет в русской литературе фигуры, более дающий облик славы и падения, возношения и презренья.
Тургенев долго был с ним приятелем, на «ты», писал ему вещи интимные. Шестидесятые годы развели их. Развело «Накануне» – будто бы внешне, но истинная причина глубже. Некрасов вполне объединился с «семинарами», Тургенев навсегда остался художником-барином. Тургенев любил Фета, выдвигал Тютчева – тончайшие блюда поэзии. От некрасовских стихов отзывало для него тиной, «как от леща или карпа». В зрелом развитии эти два человека не могли быть вместе.
И не зря пришло «внешнее» (то, что «Накануне» со всею своею зажигательностью оказалось не в «Современнике», где писали Чернышевский и Добролюбов, а в «Русском вестнике» у Каткова). Новых людей, «разночинцев», весьма лево устремленных, не мог не раздражать Тургенев своею барственностью, громадной просвещенностью, избалованностью, красноречием, французским языком салонов XVIII века, изяществом одежды, гастрономией, легким пришепетыванием – может быть, небрежной снисходительностью иногда, тоном «сверху вниз». А его задевало плебейство их, невоспитанность, грязные ногти, самоуверенность, иногда прямо наглость. (Добролюбов – один из наиболее порядочных среди них – мог позволить себе фразу: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить», встал и перешел на другую сторону комнаты.)
«Накануне» появилось в январской книжке «Русского вестника» 1860 г. – и тотчас начался обстрел в «Современнике». В мартовском номере статья Добролюбова, где утверждалось, что Тургеневу не хватает таланта для такой темы и вообще нет «ясного понимания вещей». В апрельской – насмешки над только что появившеюся «Первою любовью». (Чернышевский же упрекал Тургенева в том, что в угоду богатым и влиятельным друзьям он окарикатурил Бакунина в «Рудине».)
Нравы юмористики того времени невысоки. В «Искре» Курочкин писал: «Людская пошлость заявляет, что в следующем году она будет угощать почтеннейшую публику – Фетом, балетом, паштетом и вновь – Бертами, Минами, Фринами». «Свисток» (юмористический отдел «Современника») глумился над жизнью Тургенева. Первый русский писатель переживал самые черные времена сердца, а некрасовские «писатели» смеялись над тем, что он «следует в хвосте странствующей певицы» и «устраивает ей овации на подмостках провинциальных театров за границей». К концу года они так осмелели, что в объявлении о подписке на «Современник» 1861 г. заявили, что отказываются от сотрудничества автора «Записок охотника», ибо «расходятся с ним в убеждениях» (Некрасов только что заманивал его к себе, предлагал большие деньги за роман и т. п.!). И это лишь начало. Тургеневу предстояло пройти сквозь строй: в 61-м году он окончил «Отцов и детей». На следующий год роман появился в том же «Русском вестнике».
В тургеневской литературной жизни ничего не было равного «Отцам и детям» по шуму. «Тихий» Тургенев оказался вполне на базаре. Причины тому ясны. В романе клубилась, кипела современность. Отойдя от недр своих, питавших в нем поэта, Тургенев попробовал изобразить «героя нашего времени» внешне. Лермонтов не то чтобы писал Печорина, Печорин сам всплывал из него. Тургенев дал Базарова «со стороны», точный, верный и умный портрет. Но сердце его не могло быть с первым в нашей литературе большевиком. Не было и великого гнева Достоевского. Тургеневу просто хотелось быть справедливым и наблюдательным. Он отнесся к Базарову как ученый – глубины Тургенева этот Базаров, нигилист и отрицатель, никак не задевал.
Роман получился замечательный, но без обаяния. В нем новый человек показан ярко (хотя и смягченно)… и ни тепло от него, ни холодно. Вернее – прохладно, хотя Базаров умирает и очень трогательно, самая смерть его волновала автора.
Поднялись вопли. Молодежь обиделась. Разные гейдельбергские студенты собирали собрания, автора судили, выносили резолюции, писали ругательные письма. «Современник» был в восторге, что можно лишний раз лягнуть. Некий Антонович «тиснул» статью «Асмодей нашего времени» – с бранью на Тургенева.
Автор страдал, пытался что-то объяснить, но ничего, конечно, изменить не мог: не подходил он к людям, наполнявшим своим шумом, нигилизмами, «эмансипациями» преддверие освобождения крестьян. В некотором роде он их и взращивал. Теперь грызли его они же. Они же и отвлекали от влажного, женственного в литературе – истинно-тургеневской стихии.
* * *
Елизавета Георгиевна Ламберт (дочь графа Канкрина, в замужестве за блестящим адъютантом молодого наследника – гр. Иосифом Ламберт) появилась в жизни Тургенева к концу пятидесятых годов, в самое трудное для него время.
Известно о ней мало. Виардо много знаменитее ее, да и то виардовских писем не сохранилось. Елизавету Георгиевну можно почувствовать лишь сквозь письма Тургенева (к ней). Это дает ее облику черту летейской тени. Ее не видно и не слышно. Она за сценой. Говорит всегда Тургенев. То, что говорит и как говорит, – косвенно, нежно и туманно изображает ее самое.
Была ли она красива? Сомневаюсь. Была ли счастливой, довольной? Бесспорно нет. Натура благородная и строгая, чистая и незадачливая, явилась она для Тургенева «утешительницей», изящным другом. Ей да верному своему Анненкову писал он самые задушевные о себе вещи еще из Италии, в 57–58-м гг. В Петербурге (тогда же и в шестидесятых годах) часто бывал у нее на Фурштадтской – целыми вечерами сидел в будуаре, и беседовали они, – об этих свиданиях не раз вспоминает он почти с нежностью. Нечто от бледного, дорогого дагерротипа есть в ощущении от графини Ламберт – всегда с присутствием грусти. Женщина с какими-то своими сердечными ранами. Когда болели раны Тургенева, он в ней находил сотоварища. Одинаково томившиеся, они хорошо понимали друг друга. Решали вопрос о жизни «без счастия» – вечный и безнадежный вопрос! – но Тургеневу приходилось еще труднее: у графини, по крайней мере, была вера (не единственный ли вблизи него верующий человек, со сложною внутренней жизнью?). Но и ее положение не совсем легко. Ее дружественность к нему готова была, временами, прорваться и в большее: но не встречала ответа.
Близость душевная была довольно большой. «Помните, как вы плакали однажды? Я напоминаю это вовсе не для того, чтобы подтрунить над вами, что ли, нет, сохрани Бог. Не слезы ваши меня трогали, а то, что вы могли и не стыдились плакать» – светская женщина, очень чинная, при нем, однако, плакала. Это писано в 1859 году, когда сам он, отмучившись первыми, горькими страданиями из-за Виардо, все-таки никак смеяться не мог.
Он живет то в Спасском, то во Франции, пишет из Куртавенеля, из «грязного городишки Виши», из Москвы, из самого Петербурга. Душевно как-то «мотается», пристанища у него нет, тонкие руки графини Ламберт для него некоторое успокоение (Тургенев любил красивые женские руки). Облегчало и то, что он видел участие к себе прекрасной, изящной женщины (но не той, которая нужна!).
«С радостью думаю о вечерах, которые буду проводить нынешнею зимою в вашей милой комнате. Посмотрите, как мы будем хорошо вести себя, тихо, спокойно – как дети на Страстной неделе. За себя я отвечаю».
Значит, не всегда было «тихо и спокойно»? Он как будто сам чувствует смелость фразы и добавляет: «Я хотел только сказать, что вы моложе меня».
Это письмо как раз из Куртавенеля. Там он созерцал гроб своего прошлого. «Не чувство во мне умерло, нет, но возможность его осуществления. Я гляжу на свое счастье, как я гляжу на свою молодость, на молодость и счастье другого; я здесь, а все это там; и между этим здесь и этим там – бездна, которую не наполнит ничто и никогда в целую вечность. Остается держаться пока на волнах жизни и думать о пристани, да отыскав товарища дорогого и милого, как вы, товарища по чувствам, по мыслям и, главное, – по положению (мы оба с вами уже немного ждем для себя), крепко держать его руку и плыть вместе, пока…»
Вот что в нем было, когда задумывалось «Накануне», когда близились шестидесятые годы, освобождение крестьян, осуществление его же собственных надежд и когда начинался весь шум его романов с «общественным» содержанием.
В октябре того же 59-го г. получил он в Спасском от графини письмо более нежное, чем обычно. («Какое странное, милое, горячее и печальное письмо – точно те короткие, нешумные летние грозы, после которых все в природе еще более томится и млеет».) Здесь же – первый упрек (вернее – мягкое указание), что он начинает с нею скучать. Тургенев это отвергает. Нет, не скучает нисколько. И не может так быть, ибо есть на свете только два существа, которые он любит больше, чем ее: «одно потому, что она моя дочь, другое потому… Вы знаете, почему».
Переписка оживляется, разрастается. Вот остановился Тургенев в Москве, у приятеля своего Маслова, в Удельной Конторе на Пречистенском бульваре (чудесный особняк!). Морозы, ухабы, милый московский иней на деревьях, розовое солнце… Он захворал, у него горло простужено. Маслов почтительно за ним ухаживает. Конечно, Тургенев мнителен и избалован – так ясно чувствуешь все эти пледы, в которые он кутается, туфли, микстуры, все его страхи, томные жалобы, возню с докторами. Видны и завсегдатаи: Фет, Борисов, Николай Толстой. В промежутках успевает он познакомиться с двумя-тремя дамами («два, три интересных женских существа»). Держит корректуру «Накануне» – это январь 1860 года. «Я вас не забывал все время – и все-таки не писал вам. Примиряйте, как умеете, это противоречие». В сущности, графиня не могла жаловаться. Он и с Виардо иногда так поступал: помнил, но не писал… Правда, за это и поплатился.
Из Москвы вернулся он в Петербург и все кашляет, все хандрит, возится с докторами, не может приехать к Ламберт – не выпускают на улицу; переписывается с ней записочками – не без элегии и кокетливости. Она рассказывает ему о своих снах, называет балованным ребенком… а он успел уже познакомиться «с одной молодой милой женщиной восемнадцати лет, русской, рожденной в Италии, которая плохо знает по-русски» – и сейчас же предложил ей читать вместе Пушкина. (Очень вообще любил читать вслух дамам.)
Но в Петербурге долго не засиживается – опять Запад – Париж, Соден, Висбаден. Виардо все время в тени, за сценой, все время больное место. Тургенев совсем не на якоре, его покачивает на зыби, – один ветер тянет туда, другой сюда, ветры несильные и никак его не задевающие. Но главное направление (лишь дружеское) все же на графиню Ламберт. (От скуки, однако, болтает часами в Содене с соседкой. Провожая «одну даму» в Швальбах, заехал в Висбаден. Дама эта – писательница Марко Вовчок. С нею он тоже, конечно, немало разговаривал и читал.)
Так и следишь, живешь двумя ушедшими жизнями. Одна в другой отражается. Вот опять зима, начинается Париж, всегда для Тургенева тяжелый, незадачливый. Растравляется сердце, вновь близок источник страданий, вновь горечь, глубокая грусть и серьезность. «Да, сверх того, на днях мое сердце умерло. Сообщаю вам этот факт. Как его назвать, не знаю. Вы понимаете, что я хочу сказать. Прошедшее отделилось от меня окончательно, но, расставшись с ним, я увидал, что у меня ничего не осталось, что вся моя жизнь отделилась с ним. Тяжело мне было, но я скоро окаменел. И я чувствую теперь, что так жить еще можно. Вот если бы снова возродилась малейшая надежда возврата, она потрясла бы меня до основания» (декабрь 1860-го).
Приближалось освобождение крестьян (манифест 19 февраля 1861 г.) – то, из-за чего давал Тургенев некогда аннибалову клятву. Под звук колоколов, возвещавших освобождение, писал он: «Несомненно и ясно на земле только несчастье». К этому надо прибавить, что только что выпустил «Первую любовь» – уж действительно «для себя», не для публики: вовремя вспомнил историю юношеской своей, высокой и неразделенной любви.
Графиня Ламберт собралась в Тихвинский монастырь под Калугою. Жила там некоторое время, занесенная снегом, в тишине служб, размеренною, чистой монастырской жизнью. Эту жизнь Тургенев не совсем понимал. Она казалась ему «холодной, печальной», хотя и находил он ее «приятной». Как человек глубоко светский, представлял себе монашество могилой (не знал, что в духовной жизни есть именно радость). Но успокоение, так самому ему нужное, все-таки чувствовал.
«Я уверен, что самый стук башмаков монахини, когда она идет по каменному полу коридора в церковь молиться, ей говорит что-то… И это что-то, если не убивает, не душит человеческое, нетерпеливое сердце, должно дать ему невыразимое спокойствие и даже живучесть».
Он был гораздо более одинок, чем графиня. Она, как и те скромные тихвинские монахини, знала, что кроме несомненности несчастия есть несомненность Истины.
* * *
Жизнь дочери Тургенева слагалась неестественно. Рожденная от «рабыни», девочка сразу оказалась не к месту. Рано оторвали ее от матери, родины. Дом Виардо не дал ласки. Отца она мало знала. Он ничего для нее не жалел, учил, воспитывал, нанимал гувернанток – все это считал «долгом»; так же, через несколько лет, выдал замуж. В сущности же она ему ни к чему. Все его заботы о ней внешни, ничем не согреты. А потому бесполезны.
Подросши, Полина маленькая стала ревновать отца к Полине взрослой. Его это раздражало. Он писал ей ласковые письма, в которых не так много ласки, и нередко – упрек. Графине же Ламберт признался, что между ним и дочерью («хотя она и прекрасная девушка») мало общего. Она не любит ни музыки, ни поэзии, ни природы, ни собак, и он относится к ней, как к Инсарову: «я ее уважаю, а этого мало».
Дочь была в некотором смысле грехом Тургенева – в этом грехе он держался безупречно… но сердца своего не дал. Оттенок кары лег на их отношения.
В мае 1861 г. гостил у Тургенева в Спасском Толстой. (Друг друга они не любили, но и влекло их друг к другу.) Собрались в гости к Фету, незадолго пред тем купившему именьице Степановку – там выстроил он новый дом и обзаводился хозяйством. Приехали в добром настроении. Отправились с хозяином в рощицу, лежали на опушке, много оживленно разговаривали. Затем пили чай, ужинали – все как полагается. Остались ночевать. Фету с женой пришлось даже потесниться: дом был невелик.
Утром вышли Тургенев с Толстым к чаю, в столовую… быть может, встав с левой ноги (оба и вообще-то капризные). Уселись – Тургенев справа от хозяйки, Толстой слева. Бородатый, загорелый Фет с узкими глазками, полный посевов, забот о вывозе навоза, о каких-нибудь жеребятах, – на противоположной стороне стола. Жена Фета спросила Тургенева о его дочери. Он стал расхваливать ее гувернантку, г-жу Иннис, которая просила его установить точную сумму, какую дочь может расходовать на благотворительность. Кроме того, она заставляет ее брать на дом белье бедняков, чинить и возвращать выштопанным.
Толстой сразу рассердился.
– И вы считаете это хорошим?
– Конечно, это сближает благотворительницу с насущной нуждой.
В Толстом именно в эту минуту в свежесрубленной, пахшей сосною столовой Фета проснулось тяжелое упрямство, связанное с неуважением к собеседнику.
– А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.
Тон его был невыносим. Любил Тургенев или не любил свою дочь – это его дело. Толстой же посмеялся над бедной Полиной, да и над отцом. Этого Тургенев не мог вынести.
Дальше все поразительно – для Тургенева, мягкого, светски воспитанного, почти непонятно. Будто в одно из редких мгновений прорвалась в нем материнская кровь (тяжелый костыль, которым чуть не убила Варвара Петровна дворецкого).
После возгласа: