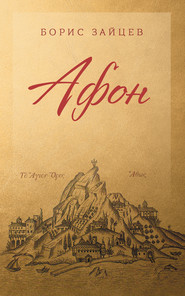По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Уже говорилось, как вслед за «Отцами и детьми» написал он «Призраки», несколько позже «Собаку». Семидесятые годы открываются как бы двойным созвучием: «Степной король Лир» – деревенский и полно-живописный Тургенев мценских полей, Орла, Спасского – и «Стук… стук… стук!» («Я как раз начисто переписал эту певучую, небесноголубую вещицу – и, к величайшему моему удивлению, заметил, что она похожа на ядовитый гриб»). Что в ней небесно-голубого нашел он, не знаю. В этой «студии» соблазненная офицером девушка, покончив с собой, из «того» мира зовет к себе соблазнителя – в таинственной туманной ночи, слабым стоном – похожим на то, что слышали еще мальчики «Бежина луга». Сомнений нет: «тот» мир все ближе подступает. Теперь лучшие свои вещи пишет он по «зову». «Живые мощи» набросаны гораздо раньше. Но пока был он моложе и больше погружен в «лапку утки» и «морду коровы, с которой падают блестящие капли», – Лукерья, сны ее, видения меньше его занимали. Рукопись лежала в столе, не доведенная до состояния художества. Зря, случайно? В благотворительные сборники и раньше зазывали его. Но вот лишь теперь (в 74-м г.) появилась эта драгоценность литературы нашей. Лукерья такая же заступница за Россию и всех нас, как смиренная Агашенька, раба и мученица Варвары Петровны, как Лиза. Вместе с Лизой она свидетельствует и о каких-то возможностях Тургенева, не до конца раскрывшихся. О неполной власти магического.
1875-й год отмечен рассказом «Часы». Автор сам находил его «странным» – во всей несколько запутанной истории простые будто бы часы играют роль недобрую и знаменательную. Еще мрачнее следующая вещь «Сон», кошмар сплошной, написанный с той убедительностью, какую мог дать лишь человек, сам с призраками знавшийся. Затем «Рассказ о. Алексея» – тут просто уж изображается, как дьявол овладел душою человека. Удивительный по тону, полный кротости, он страшен безответностью, почти опасен (ощущением всемогущества, неотвратимости зла). Но что легкое, светлое мог дать художник, отмечавший в своем дневнике (1877): «Полночь. Сижу опять за своим столом. А на душе у меня темнее темной ночи… Могила словно торопится проглотить меня; как миг какой пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный. Смотришь: опять вались в постель. – Ни права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать».
Дух мрака, горестного уныния знаком всякому – до святых, впадавших иногда в тоску. Но они одолевали ее слиянием (в молитве, устремлении духовном и любовном) – с Верховным благом. Тургеневу же некуда было преклонить главу, некому излиться. Не от кого ждать помощи.
В те самые семидесятые годы, когда вкусно обедал он с французскими литераторами, покупал картины в Hotel Drouot, водил знакомство с Лавровым и давал деньги на революционный журнал, когда восторгался цюрихскими народницами-студентками, самоотверженно набиравшими свое издание, – тут-то и мог по-настоящему писать лишь «подпольное». Тургенев дневной, общественный, «отражавший современность», не удавался уже вовсе.
«Новь» – плод сложных, долгих размышлений, наблюдений. Роман, написанный, может быть, самою зрелою техникой Тургенева, с наибольшим движением и прочностью композиции (слабые стороны его раннего писания), – совершенно погиб. Вот вещь не благословенная, незадачливая в корне, ничем не овлажненная, не оплодотворенная – самое страшное для художника зрелого: будто все и на месте, и все ни к чему. Все подсушено, без живых соков (хотя имеет вид жизненности). Горькая «Новь» с изображением хождений в народ молодых, иногда трогательных интеллигентов, несчастных и гамлетизирующих, никакой истинной новью не благоухающих. Зря пропали деньги Тургенева на лавровский журнал. Ничего не дал ему и сам этот отшельник латинского квартала со своими цюрихскими студентками.
Нет, не то мог делать теперь старый, больной, томимый чувством близкого конца Тургенев.
* * *
В «Сне» некий офицер «с черными, злыми глазами», отчаявшись в любви к нему матери лица, ведущего рассказ, прибегает к насилию. В отсутствие мужа проникает в ее спальню, набрасывает на голову ей подушку и т. д. Рожденный при такой обстановке сын видит впоследствии упорный сон об отце – и однажды наконец его встречает (в приморском городе, где живет одиноко с матерью). Отец действительности вполне походит на отца сна (при нем некий таинственный «арап»). Снова пытается отец проникнуть к матери, на этот раз неудачно. Уезжает в Америку и гибнет в буре. Его тело прибило к берегу, и, гуляя по взморью, юноша вновь видит, но уже мертвого, отца – с тем обручальным кольцом на пальце, которое он сорвал с жертвы в первое свое посещение. Юноша бежит домой, приводит мать к этим песчаным дюнам, но утопленника уже нет… так же загадочно он и сгинул.
Написан «отец» смутно, в облаке таинственности. Будто он приходил к матери тогда естественно (указана даже потайная дверь в стене). Но остается впечатление магнетизирующей силы, колдовства, таившегося в черноглазом человеке с арапом, – содействия сил темных.
Овладеть в отвергнутой любви силою… да еще весьма двусмысленной… В этом «Сне» есть отчаяние страсти. И – беззащитность от вторжения ее (мать не может сопротивляться вихрю, чужой страстной воле).
Воля в любви. Порабощение одного другим, предельно ли грубое или более сложное, но не менее жуткое насылание «болезни любви», как наслала ее Мария Николаевна на Санина в «Вешних водах», – это Тургенева давно занимало. Любил он любовь и боялся ее. В «Сне» редкий у Тургенева случай, когда мужчина действует. (Обычно «берет» женщина – мужчину слабого, неволевого.)
Не знаю, как Виардо отнеслась ко «Сну». При своем трезвом и «благоразумном» настроении вряд ли одобрила. И она, и ее муж бывали строги к Тургеневу. Во всяком случае, под их кровом, в третьем этаже дома на rue de Douai, в небольших комнатах, где висел портрет Виардо, стоял ее бюст, откуда слышны были колоратуры учениц, распевавших внизу с седою, но блестяще-черноглазою прельстительницей, сочинял Тургенев такие странные, никому не близкие и не имевшие успеха вещи…
Сам он старел, Эрос же в нем не гас. Вряд ли он был теперь в Полину влюблен. Романом с ней никак не отзывает жизнь в доме entre la cour et le jardin. Но ее власть над ним огромна. Он как бы в тихом, заколдованном оцепенении. Его сердце может даже открываться другим. Но над всем бодрствуют черные, пожалуй, и действительно магнетические глаза Полины. Достаточно ей сказать «так» – и будет так. Уехав в Россию, по первому зову прилетит он в Париж, как бы в туманном лунатизме.
Баронесса Юлия Петровна Вревская – блестящая красавица, чудесный, страстный человек. Они встретились в конце 73-го года. Она очень ему понравилась. Уже весною 74-го пишет он ей из Парижа о своем чувстве к ней, «несколько странном, но искреннем и хорошем». Летом он побывал в России. Вревская приезжала к нему в Спасское, провела там пять дней в июле – робостью она не отличалась, но авантюристкой не была никак. Тургенев, разумеется, ей тоже нравился. В собственной жизни она неустроена и тоже томится. Ей хочется жить, но не так печально-созерцательно, как графиня Ламберт, не так семейственно, как Ольга Александровна. Она более женщина нового времени. Не Елена ли «Накануне», попавшая в семидесятые годы? Многое уже видела. Многое испытала. Знает разочарования, но и силы свои. Не одна семья и не одна любовь ее влекут. Жить – значит действовать. Рядом с любимым человеком, но на равной ноге.
На роль Инсарова никак Тургенев не годился. По обыкновению, расставлял свои серебристые тенета, слегка опутывал и завлекал, но что мог предложить решительного? В Спасском читал ей вслух стихи, мастерски рассказывал (кто же из женщин скучал с Тургеневым?), загадочно целовал ручку, вздыхал – был мил и очарователен, – вечно ходил вокруг да около. «Мне все кажется, что если бы мы оба встретились молодыми, неискушенными, а главное, свободными людьми… докончите фразу сами».
Кого можно зажечь «условными предложениями»? (Если бы да если бы…) Но ведь это пишет Тургенев, и тайком от Виардо. Полина отлично могла себе позволить баденского доктора и с Тургеневым на этот счет не советовалась. Если бы, однако, узнала о его «отклонениях», вряд ли бы ему поздоровилось.
Тургенев виделся со Вревской вне Парижа: в 75-м г. в Карлсбаде, где вместе они пили воды. В 76-м – в России. А еще через год он так осмелел, что написал ей: «С тех пор, как я Вас встретил, я полюбил Вас дружески и в то же время имел неотступное желание обладать Вами; оно было, однако, не настолько необузданно, чтобы попросить Вашей руки, к тому же другие причины препятствовали; а с другой стороны, я знал очень хорошо, что Вы не согласитесь на то, что французы называют une passade». Вревская раньше писала ему, что не питает «никаких задних мыслей». Он тут же прибавляет: «Я, к сожалению, слишком был в том уверен» (обычное его положение: не возбуждать страсти в женщине). Вревскую все-таки его письмо смутило. Она ответила – и в письме была загадочная фраза, над которой он «поломал голову». Но дело опять кончилось придаточным предложением из числа условных. 8 февраля он пишет: «Нет сомнения, что несколько времени тому назад, если бы Вы захотели…»
То есть «если бы» она его взяла. Этого, разумеется, не случилось. Вревская никак не собиралась «женить» на себе Тургенева. Никаких «карьер» или «тихих пристаней» она не желала. Наоборот, неизжитые силы влекли ее вперед. Хотелось действия, притом доброго действия. Вревская поступила решительно, прямо. Шла русско-турецкая война. Вскоре после последней встречи с Тургеневым (в конце мая, в Павловске на даче Полонского) уехала она сестрой милосердия на войну – в ту же Болгарию, куда некогда устремлялась Елена. Там героически ухаживала за больными, ранеными. Там сложила голову «за други своя». С «золотой волюшкой» не рассталась, жизнь же отдала.
Тургенев как раз в это время начал еще новый род писаний своих, лирико-философических, назвал их «Стихотворения в прозе». О смерти ее он написал знаменитое «стихотворение» – последняя весть о Вревской, последнее ее прославление.
«…На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке – с лишком две недели умирала она от тифа. Она была в беспамятстве – ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, – поочередно подымались со своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка».
Так проиграла (а вернее, выиграла!) свою жизнь Вревская. Подходящая для нее судьба: скорый, трагический и героический конец. Расчеты Тургенева с жизнью шли медленнее. Ничего не было в них героического.
Буживаль
«Мы с Виардо приобрели здесь прекрасную виллу – в трех четвертях часа езды от Парижа, – я отстраиваю себе павильон, который будет готов не раньше 20-го августа – но где я немедленно поселюсь… – Я езжу в Париж три раза в неделю».
Это писано летом 1875 года. «Здесь» – Буживаль, недалеко от С.-Жермен, на берегу Сены.
Видимо, купили они сообща. Вилла называлась Les Frenes («Ясени»). С набережной ворота вели в парк. (Они и ныне существуют. На них доска с обозначением, что тут жил «знаменитый русский романист Иван Сергеевич Тургенев».) Две дороги, усыпанные песком, подымались вверх к дому. Вокруг кусты, зелень, чудесные ясени, плакучие ивы. Как и в Бадене, много воды. Она скоплялась в бассейнах, бежала ручейками среди бегоний, фуксий по лужайкам, мшистых огромных деревьев. Главный дом, где жили Виардо, наверху. У Тургенева небольшое chalet[61 - Сельский домик, дача (франц.).] в швейцарском духе, недалеко от дома – все в цветах, зелени. В rez-de-chaussе[62 - Нижний этаж в доме (франц.).] столовая и гостиная. Выше большой кабинет, много книг, картин, мебель обита темно-красным сафьяном. Из углового окна вид на Сену – на ней те же баржи, что и теперь, лодки, кабачки под ивами и тополями. Зеленые луга, коровы. Голубизна далей – тогда все было просторней, более деревенское. Еще этажом выше – спальня и комната для гостей.
Сюда выезжали каждую весну из Парижа, с rue de Douai, в каретах, медленно и основательно кативших по шоссе, с сундуками, баулами, картонками – на все лето. (Как бы парижское Нескучное или Царицыно.) Лишь ноябрьские туманы загоняли в город.
Собиралась вся семья: семидесятипятилетний Луи Виардо, Полина, дочери – Клавдия Шамеро и Марианна Дювернуа, сын Поль. Приезжал – возвращаясь из Карлсбада с леченья или из России (там бывал чуть не каждый год) – Тургенев. Случалось, что и ученицы Виардо жили тут в пансионе по соседству. Жизнь шла тихая, старчески-закатная. Тургенев, как всегда, работал. К Буживалю имеют отношение «Сон», «Рассказ о. Алексея» и позднейшие «Клара Милич», «Стихотворения в прозе», предсмертные наброски. Осенью 76-го года здесь переписывалась «Новь» – и очень многие письма помечены Буживалем (Тургенев всегда тщательно означал даты и место – любил, чтобы и ему указывали их).
Видишь его здесь полубольным и грустным, с подагрою, нередко в пледе, медленно прогуливающимся по парку (в лучшие, относительно, годы, до последней болезни). Очень это не похоже на его молодость в Куртавенеле, но ни от чувств Куртавенеля, ни от самого поместья ничего более не осталось.
К молодости, красоте тяготение неизбывно. Вот Диди расставляет у него в кабинете, рядом с окном на Сену, кисти, краски на мольберте, тут для нее поставленном. Это видная молодая женщина с черными блестящими волосами, острыми чертами лица, глубокими синими глазами. Обликом напоминает мать. Она тоже умеет петь – Полина обучала ее. Но ее занимают больше кисти, краски. Диди с детства рисует. В годы Бадена дарила Тургеневу ко дню рождения «Св. Семейство» – здесь пишет пейзажи, натюрморты.
Тургеневу нравится, что она близ него. Может быть, он дает ей советы, критикует, хвалит. Снизу, с крокетной площадки, тоже молодые голоса, щелкают шары, смех: ученицы забавляются не столь веселой игрой. Накидывая на плечи пестрый плед – летом нередко холодно, – спускается он вниз и под ясенями садится на скамейку, смотрит, как играют. Ученицы разноплеменные: южная красавица Гаргани – венгерка; мечтательная Фермерн, чудесное контральто, немка. Ромм русская. Все, как на подбор, высокие, стройные. В Париже, увидав их раз в салоне Виардо, Тургенев окрестил всю тройку «анабаптистами» из «Пророка», так и осталось за ними название. Опять похоже на Лаврецкого и молодежь, только не в Орле на Дворянской, а на латинской земле, и Лаврецкому шестьдесят лет. Анабаптисты относятся к нему с благоговением – это великий писатель, такой приветливый и грустный человек, даже такой красивый, несмотря на возраст. Возможно, и он тряхнет стариной, сыграет партию, да вряд ли барышни решатся обыграть его. Хотя боязни к нему нет. Кому он страшен? Кого обижал из малых сих? (Не то что Виардо: от нее, случалось, плакали статные ученицы – потом мирились, целовались – до ближайшей ссоры.)
Долго ему под ясенями, однако, не усидеть. Из дому бежит прислуга.
– Г. Тургенева спрашивают…
Или:
– Приезжая дама очень хочет видеть по делу г. Тургенева.
Это соотечественники, Виардо не особенно их ласково встречает, все-таки они просачиваются. Может быть, молодой, рыжеватый, с бородкой клочьями и в косоворотке народник, будущий Златовратский, приехал «ознакомиться со взглядом нашего знаменитого писателя на революционное движение», выяснить окончательно, «как он относится к прогрессу?» – и заодно пожурить за «постепеновщину», за то, что в «Нови» «недостаточно выведено положительных типов», и т. д.
– В России назревают события, – осведомляет юнец. – В Петербурге сейчас два правительства: одно в Зимнем дворце, другое в конспиративной квартире исполнительного комитета…
Все это Тургенев знает, но ничего не поделаешь, надо слушать. Он полулежит – громадный, с серебряной головой, кутает ноги пледом.
– Вы уж меня извините, – говорит высоким, пришепетывающим тенором, – за такую позу. Больной старик… Да, да, я преклоняюсь пред самоотвержением русской молодежи. Я вам очень благодарен за ценные указания. Разумеется, я сделал в «Нови» промах…
Посетитель оглядывается по сторонам. Видимо, обстановка его смущает, и собственная косоворотка, и бородка козлиная.
– Вы здесь вдали от гущи жизни. Для уловления нарождающихся типов необходимо быть, так сказать, внутри, а не вовне…
Это больное место Тургенева. За «гущу», за якобы «измену» родине («променял на Францию») кто только не корил его? (А когда умер Флобер и попробовал Тургенев собирать на памятник ему в России, эта милая Россия в ярости на него набросилась!)
Может случиться, что народник вытащит-таки из-под полы, пыжась и краснея, трубочку рукописи, где «выведены» в поучение Тургеневу и «положительные» типы, будет рассказано, как честная учительница с не менее честным учителем ушли в народ и что из этого получилось.
Терпелив Тургенев. Прочтет, одобрит, перешлет Стасюлевичу – нельзя ли «тиснуть» в «Вестнике Европы»? Из своих средств даст аванс… (Одна из причин нелюбви Полины к землякам.)
Или же не народник, а щебечущая дама дожидается. Под вуалькой, в джерси, с турнюром и юбкой в воланах.
– Иван Сергеевич, я такая ваша поклонница… позвольте представиться… обожаю ваш талант, мне бы хотелось автограф.
Это – в лучшем случае. А то – похлопотать за сына. Его надо поместить в гимназию на казенный счет, так вот не может ли он дать письмо… При его имени… с его известностью.
– А сколько лет вашему сыну?
Тургенев берется за перо.
– Пятый пошел.
– Ну, в таком случае не возьмут.
1875-й год отмечен рассказом «Часы». Автор сам находил его «странным» – во всей несколько запутанной истории простые будто бы часы играют роль недобрую и знаменательную. Еще мрачнее следующая вещь «Сон», кошмар сплошной, написанный с той убедительностью, какую мог дать лишь человек, сам с призраками знавшийся. Затем «Рассказ о. Алексея» – тут просто уж изображается, как дьявол овладел душою человека. Удивительный по тону, полный кротости, он страшен безответностью, почти опасен (ощущением всемогущества, неотвратимости зла). Но что легкое, светлое мог дать художник, отмечавший в своем дневнике (1877): «Полночь. Сижу опять за своим столом. А на душе у меня темнее темной ночи… Могила словно торопится проглотить меня; как миг какой пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный. Смотришь: опять вались в постель. – Ни права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать».
Дух мрака, горестного уныния знаком всякому – до святых, впадавших иногда в тоску. Но они одолевали ее слиянием (в молитве, устремлении духовном и любовном) – с Верховным благом. Тургеневу же некуда было преклонить главу, некому излиться. Не от кого ждать помощи.
В те самые семидесятые годы, когда вкусно обедал он с французскими литераторами, покупал картины в Hotel Drouot, водил знакомство с Лавровым и давал деньги на революционный журнал, когда восторгался цюрихскими народницами-студентками, самоотверженно набиравшими свое издание, – тут-то и мог по-настоящему писать лишь «подпольное». Тургенев дневной, общественный, «отражавший современность», не удавался уже вовсе.
«Новь» – плод сложных, долгих размышлений, наблюдений. Роман, написанный, может быть, самою зрелою техникой Тургенева, с наибольшим движением и прочностью композиции (слабые стороны его раннего писания), – совершенно погиб. Вот вещь не благословенная, незадачливая в корне, ничем не овлажненная, не оплодотворенная – самое страшное для художника зрелого: будто все и на месте, и все ни к чему. Все подсушено, без живых соков (хотя имеет вид жизненности). Горькая «Новь» с изображением хождений в народ молодых, иногда трогательных интеллигентов, несчастных и гамлетизирующих, никакой истинной новью не благоухающих. Зря пропали деньги Тургенева на лавровский журнал. Ничего не дал ему и сам этот отшельник латинского квартала со своими цюрихскими студентками.
Нет, не то мог делать теперь старый, больной, томимый чувством близкого конца Тургенев.
* * *
В «Сне» некий офицер «с черными, злыми глазами», отчаявшись в любви к нему матери лица, ведущего рассказ, прибегает к насилию. В отсутствие мужа проникает в ее спальню, набрасывает на голову ей подушку и т. д. Рожденный при такой обстановке сын видит впоследствии упорный сон об отце – и однажды наконец его встречает (в приморском городе, где живет одиноко с матерью). Отец действительности вполне походит на отца сна (при нем некий таинственный «арап»). Снова пытается отец проникнуть к матери, на этот раз неудачно. Уезжает в Америку и гибнет в буре. Его тело прибило к берегу, и, гуляя по взморью, юноша вновь видит, но уже мертвого, отца – с тем обручальным кольцом на пальце, которое он сорвал с жертвы в первое свое посещение. Юноша бежит домой, приводит мать к этим песчаным дюнам, но утопленника уже нет… так же загадочно он и сгинул.
Написан «отец» смутно, в облаке таинственности. Будто он приходил к матери тогда естественно (указана даже потайная дверь в стене). Но остается впечатление магнетизирующей силы, колдовства, таившегося в черноглазом человеке с арапом, – содействия сил темных.
Овладеть в отвергнутой любви силою… да еще весьма двусмысленной… В этом «Сне» есть отчаяние страсти. И – беззащитность от вторжения ее (мать не может сопротивляться вихрю, чужой страстной воле).
Воля в любви. Порабощение одного другим, предельно ли грубое или более сложное, но не менее жуткое насылание «болезни любви», как наслала ее Мария Николаевна на Санина в «Вешних водах», – это Тургенева давно занимало. Любил он любовь и боялся ее. В «Сне» редкий у Тургенева случай, когда мужчина действует. (Обычно «берет» женщина – мужчину слабого, неволевого.)
Не знаю, как Виардо отнеслась ко «Сну». При своем трезвом и «благоразумном» настроении вряд ли одобрила. И она, и ее муж бывали строги к Тургеневу. Во всяком случае, под их кровом, в третьем этаже дома на rue de Douai, в небольших комнатах, где висел портрет Виардо, стоял ее бюст, откуда слышны были колоратуры учениц, распевавших внизу с седою, но блестяще-черноглазою прельстительницей, сочинял Тургенев такие странные, никому не близкие и не имевшие успеха вещи…
Сам он старел, Эрос же в нем не гас. Вряд ли он был теперь в Полину влюблен. Романом с ней никак не отзывает жизнь в доме entre la cour et le jardin. Но ее власть над ним огромна. Он как бы в тихом, заколдованном оцепенении. Его сердце может даже открываться другим. Но над всем бодрствуют черные, пожалуй, и действительно магнетические глаза Полины. Достаточно ей сказать «так» – и будет так. Уехав в Россию, по первому зову прилетит он в Париж, как бы в туманном лунатизме.
Баронесса Юлия Петровна Вревская – блестящая красавица, чудесный, страстный человек. Они встретились в конце 73-го года. Она очень ему понравилась. Уже весною 74-го пишет он ей из Парижа о своем чувстве к ней, «несколько странном, но искреннем и хорошем». Летом он побывал в России. Вревская приезжала к нему в Спасское, провела там пять дней в июле – робостью она не отличалась, но авантюристкой не была никак. Тургенев, разумеется, ей тоже нравился. В собственной жизни она неустроена и тоже томится. Ей хочется жить, но не так печально-созерцательно, как графиня Ламберт, не так семейственно, как Ольга Александровна. Она более женщина нового времени. Не Елена ли «Накануне», попавшая в семидесятые годы? Многое уже видела. Многое испытала. Знает разочарования, но и силы свои. Не одна семья и не одна любовь ее влекут. Жить – значит действовать. Рядом с любимым человеком, но на равной ноге.
На роль Инсарова никак Тургенев не годился. По обыкновению, расставлял свои серебристые тенета, слегка опутывал и завлекал, но что мог предложить решительного? В Спасском читал ей вслух стихи, мастерски рассказывал (кто же из женщин скучал с Тургеневым?), загадочно целовал ручку, вздыхал – был мил и очарователен, – вечно ходил вокруг да около. «Мне все кажется, что если бы мы оба встретились молодыми, неискушенными, а главное, свободными людьми… докончите фразу сами».
Кого можно зажечь «условными предложениями»? (Если бы да если бы…) Но ведь это пишет Тургенев, и тайком от Виардо. Полина отлично могла себе позволить баденского доктора и с Тургеневым на этот счет не советовалась. Если бы, однако, узнала о его «отклонениях», вряд ли бы ему поздоровилось.
Тургенев виделся со Вревской вне Парижа: в 75-м г. в Карлсбаде, где вместе они пили воды. В 76-м – в России. А еще через год он так осмелел, что написал ей: «С тех пор, как я Вас встретил, я полюбил Вас дружески и в то же время имел неотступное желание обладать Вами; оно было, однако, не настолько необузданно, чтобы попросить Вашей руки, к тому же другие причины препятствовали; а с другой стороны, я знал очень хорошо, что Вы не согласитесь на то, что французы называют une passade». Вревская раньше писала ему, что не питает «никаких задних мыслей». Он тут же прибавляет: «Я, к сожалению, слишком был в том уверен» (обычное его положение: не возбуждать страсти в женщине). Вревскую все-таки его письмо смутило. Она ответила – и в письме была загадочная фраза, над которой он «поломал голову». Но дело опять кончилось придаточным предложением из числа условных. 8 февраля он пишет: «Нет сомнения, что несколько времени тому назад, если бы Вы захотели…»
То есть «если бы» она его взяла. Этого, разумеется, не случилось. Вревская никак не собиралась «женить» на себе Тургенева. Никаких «карьер» или «тихих пристаней» она не желала. Наоборот, неизжитые силы влекли ее вперед. Хотелось действия, притом доброго действия. Вревская поступила решительно, прямо. Шла русско-турецкая война. Вскоре после последней встречи с Тургеневым (в конце мая, в Павловске на даче Полонского) уехала она сестрой милосердия на войну – в ту же Болгарию, куда некогда устремлялась Елена. Там героически ухаживала за больными, ранеными. Там сложила голову «за други своя». С «золотой волюшкой» не рассталась, жизнь же отдала.
Тургенев как раз в это время начал еще новый род писаний своих, лирико-философических, назвал их «Стихотворения в прозе». О смерти ее он написал знаменитое «стихотворение» – последняя весть о Вревской, последнее ее прославление.
«…На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке – с лишком две недели умирала она от тифа. Она была в беспамятстве – ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, – поочередно подымались со своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка».
Так проиграла (а вернее, выиграла!) свою жизнь Вревская. Подходящая для нее судьба: скорый, трагический и героический конец. Расчеты Тургенева с жизнью шли медленнее. Ничего не было в них героического.
Буживаль
«Мы с Виардо приобрели здесь прекрасную виллу – в трех четвертях часа езды от Парижа, – я отстраиваю себе павильон, который будет готов не раньше 20-го августа – но где я немедленно поселюсь… – Я езжу в Париж три раза в неделю».
Это писано летом 1875 года. «Здесь» – Буживаль, недалеко от С.-Жермен, на берегу Сены.
Видимо, купили они сообща. Вилла называлась Les Frenes («Ясени»). С набережной ворота вели в парк. (Они и ныне существуют. На них доска с обозначением, что тут жил «знаменитый русский романист Иван Сергеевич Тургенев».) Две дороги, усыпанные песком, подымались вверх к дому. Вокруг кусты, зелень, чудесные ясени, плакучие ивы. Как и в Бадене, много воды. Она скоплялась в бассейнах, бежала ручейками среди бегоний, фуксий по лужайкам, мшистых огромных деревьев. Главный дом, где жили Виардо, наверху. У Тургенева небольшое chalet[61 - Сельский домик, дача (франц.).] в швейцарском духе, недалеко от дома – все в цветах, зелени. В rez-de-chaussе[62 - Нижний этаж в доме (франц.).] столовая и гостиная. Выше большой кабинет, много книг, картин, мебель обита темно-красным сафьяном. Из углового окна вид на Сену – на ней те же баржи, что и теперь, лодки, кабачки под ивами и тополями. Зеленые луга, коровы. Голубизна далей – тогда все было просторней, более деревенское. Еще этажом выше – спальня и комната для гостей.
Сюда выезжали каждую весну из Парижа, с rue de Douai, в каретах, медленно и основательно кативших по шоссе, с сундуками, баулами, картонками – на все лето. (Как бы парижское Нескучное или Царицыно.) Лишь ноябрьские туманы загоняли в город.
Собиралась вся семья: семидесятипятилетний Луи Виардо, Полина, дочери – Клавдия Шамеро и Марианна Дювернуа, сын Поль. Приезжал – возвращаясь из Карлсбада с леченья или из России (там бывал чуть не каждый год) – Тургенев. Случалось, что и ученицы Виардо жили тут в пансионе по соседству. Жизнь шла тихая, старчески-закатная. Тургенев, как всегда, работал. К Буживалю имеют отношение «Сон», «Рассказ о. Алексея» и позднейшие «Клара Милич», «Стихотворения в прозе», предсмертные наброски. Осенью 76-го года здесь переписывалась «Новь» – и очень многие письма помечены Буживалем (Тургенев всегда тщательно означал даты и место – любил, чтобы и ему указывали их).
Видишь его здесь полубольным и грустным, с подагрою, нередко в пледе, медленно прогуливающимся по парку (в лучшие, относительно, годы, до последней болезни). Очень это не похоже на его молодость в Куртавенеле, но ни от чувств Куртавенеля, ни от самого поместья ничего более не осталось.
К молодости, красоте тяготение неизбывно. Вот Диди расставляет у него в кабинете, рядом с окном на Сену, кисти, краски на мольберте, тут для нее поставленном. Это видная молодая женщина с черными блестящими волосами, острыми чертами лица, глубокими синими глазами. Обликом напоминает мать. Она тоже умеет петь – Полина обучала ее. Но ее занимают больше кисти, краски. Диди с детства рисует. В годы Бадена дарила Тургеневу ко дню рождения «Св. Семейство» – здесь пишет пейзажи, натюрморты.
Тургеневу нравится, что она близ него. Может быть, он дает ей советы, критикует, хвалит. Снизу, с крокетной площадки, тоже молодые голоса, щелкают шары, смех: ученицы забавляются не столь веселой игрой. Накидывая на плечи пестрый плед – летом нередко холодно, – спускается он вниз и под ясенями садится на скамейку, смотрит, как играют. Ученицы разноплеменные: южная красавица Гаргани – венгерка; мечтательная Фермерн, чудесное контральто, немка. Ромм русская. Все, как на подбор, высокие, стройные. В Париже, увидав их раз в салоне Виардо, Тургенев окрестил всю тройку «анабаптистами» из «Пророка», так и осталось за ними название. Опять похоже на Лаврецкого и молодежь, только не в Орле на Дворянской, а на латинской земле, и Лаврецкому шестьдесят лет. Анабаптисты относятся к нему с благоговением – это великий писатель, такой приветливый и грустный человек, даже такой красивый, несмотря на возраст. Возможно, и он тряхнет стариной, сыграет партию, да вряд ли барышни решатся обыграть его. Хотя боязни к нему нет. Кому он страшен? Кого обижал из малых сих? (Не то что Виардо: от нее, случалось, плакали статные ученицы – потом мирились, целовались – до ближайшей ссоры.)
Долго ему под ясенями, однако, не усидеть. Из дому бежит прислуга.
– Г. Тургенева спрашивают…
Или:
– Приезжая дама очень хочет видеть по делу г. Тургенева.
Это соотечественники, Виардо не особенно их ласково встречает, все-таки они просачиваются. Может быть, молодой, рыжеватый, с бородкой клочьями и в косоворотке народник, будущий Златовратский, приехал «ознакомиться со взглядом нашего знаменитого писателя на революционное движение», выяснить окончательно, «как он относится к прогрессу?» – и заодно пожурить за «постепеновщину», за то, что в «Нови» «недостаточно выведено положительных типов», и т. д.
– В России назревают события, – осведомляет юнец. – В Петербурге сейчас два правительства: одно в Зимнем дворце, другое в конспиративной квартире исполнительного комитета…
Все это Тургенев знает, но ничего не поделаешь, надо слушать. Он полулежит – громадный, с серебряной головой, кутает ноги пледом.
– Вы уж меня извините, – говорит высоким, пришепетывающим тенором, – за такую позу. Больной старик… Да, да, я преклоняюсь пред самоотвержением русской молодежи. Я вам очень благодарен за ценные указания. Разумеется, я сделал в «Нови» промах…
Посетитель оглядывается по сторонам. Видимо, обстановка его смущает, и собственная косоворотка, и бородка козлиная.
– Вы здесь вдали от гущи жизни. Для уловления нарождающихся типов необходимо быть, так сказать, внутри, а не вовне…
Это больное место Тургенева. За «гущу», за якобы «измену» родине («променял на Францию») кто только не корил его? (А когда умер Флобер и попробовал Тургенев собирать на памятник ему в России, эта милая Россия в ярости на него набросилась!)
Может случиться, что народник вытащит-таки из-под полы, пыжась и краснея, трубочку рукописи, где «выведены» в поучение Тургеневу и «положительные» типы, будет рассказано, как честная учительница с не менее честным учителем ушли в народ и что из этого получилось.
Терпелив Тургенев. Прочтет, одобрит, перешлет Стасюлевичу – нельзя ли «тиснуть» в «Вестнике Европы»? Из своих средств даст аванс… (Одна из причин нелюбви Полины к землякам.)
Или же не народник, а щебечущая дама дожидается. Под вуалькой, в джерси, с турнюром и юбкой в воланах.
– Иван Сергеевич, я такая ваша поклонница… позвольте представиться… обожаю ваш талант, мне бы хотелось автограф.
Это – в лучшем случае. А то – похлопотать за сына. Его надо поместить в гимназию на казенный счет, так вот не может ли он дать письмо… При его имени… с его известностью.
– А сколько лет вашему сыну?
Тургенев берется за перо.
– Пятый пошел.
– Ну, в таком случае не возьмут.