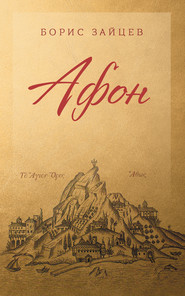По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Позволение ехать за границу меня радует… И в то же время я не могу не сознаться, что лучше было бы для меня не ехать. В мои годы уехать за границу значит: определить себя окончательно на цыганскую жизнь и бросить все помышления о семейной жизни». (Т. е. быть при Виардо, не свивая «гнезда».)
А вот следующее письмо, тоже июньское: «Я не рассчитываю более на счастье для себя, т. е. на счастье в том опять-таки тревожном смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами… Впрочем, на словах-то мы все мудрецы: а первая попавшаяся глупость пробежи мимо, так и бросишься за нею в погоню. Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, я, кажется, ничего больше не делал, как гонялся за глупостями. Дон Кихот, по крайней мере, верил в красоту своей Дульцинеи, а нашего времени Дон Кихоты и видят, что их Дульцинея урод, а все бегут за нею».
Слова странные, но знаменательные. Надежды на счастье нет, а гнаться за ним все же хочется. Ехать за границу опасно, а все-таки едет. Дульцинея не такая уж и красавица…
Ясно, к кому это относится. Слово соскочило тяжелое, грубое. Какой-то надлом уже был. Что-то задело. И в то же время – свободы, равнодушия нет. Будто и переписка заглохла, и другие уклоны являлись, и годы подходят (к сорока он считал себя уже «стариком»), а все-таки… грустно сидеть в великолепном Спасском, где легко завести десять Фетисток, но где нет единственной, некрасивой Полины Виардо.
И он тронулся – 21 июля 1856 г. на пароходе в Штеттин, как некогда, в молодости, выезжал в дальние края учиться. Тогда боялся матери, тайком играл на пароходе и чуть не погиб в пожаре. Теперь мать давно в могиле. Пожара не случилось, в штосс он играть мог бы, да не хотелось – зато поездка вся была азартной игрой. Он ставил крупно, на Виардо и на все будущее свое…
Из Штеттина во Францию, снова осень в Куртавенеле. Снова Виардо, замок времен Франциска, парк, милые пруды, каналы, тополя, дубы и вязы, леса, поля, где стреляли они с Луи Виардо куропаток. Будто бы все прежнее, но все и другое. Дорого пришлось платить этою осенью за дни былых куртавенельских радостей!
Шесть лет разлуки оказались не пустяк. Фетистка, Ольга Александровна – с его стороны. Была ли у женщины в расцвете сил, с натурой и темпераментом Виардо-Гарсиа вся душа прикована к старому, бесцветному мужу, охотнику за жаворонками и куропатками? Могла ли она так уж отдаться загадочному русскому другу, шесть лет безвыездно прожившему в Скифии, не столь много ей и писавшему, имевшему связь, чуть не женившемуся? Надо быть справедливым: Виардо не бралась за роль Пенелопы. Но вот теперь, после шести лет отсутствия, этот туманный, мечтательный друг появляется… Началось что-то новое.
Нет сомнения, что, вернувшись, он увидал такое, о чем издали, может быть, и догадывался, но не знал точно. А теперь вложил персты. Молва называла его соперником известного художника Ари Шеффера, близкого человека к Полине – он писал и ее портрет.
Тут и оказалось, что, пока жил Тургенев в Спасском, блистал в Петербурге, Полина представлялась ему петраркической мечтой, смутно вздыхательной, к которой жизненно не так уж он и стремился. Теперь, увидев, что его дело проиграно, испытал все, что полагается. В страстности, умении страдать, ненавидеть, оскорблять или впадать в болезненный восторг проявил даже неожиданную силу.
Как раз тою же осенью Фет находился во Франции. Смесь замечательного поэта с грубоватым помещиком, поклонника Шопенгауэра с провинциальным офицером, Фет явился в Куртавенель на зов Тургенева, но не особенно удачно. Тургенев что-то перепутал. В расстройстве чувств забыл – и вышло так, что в день приезда Фета он надолго отправился с Луи Виардо стрелять куропаток. Лошадей в Розье не выслали, Фета подвез случайный фермер. В замке удовольствие приема выпало самой Полине. Она повела гостя на прогулку. Охотников встретили только под вечер, выйдя в поле, – и как раз в Куртавенеле в эти дни были гости, так что и поместить приезжего оказалось нелегко. Все-таки он провел здесь несколько дней.
Некоею своей аляповатостью, видом армейского офицера endimanchе[52 - Прифранченного (франц.).], несмешными анекдотами на плохом французском языке, кольцами на руках, произвел он впечатление неприятное. С Тургеневым иногда запирался и спорил. Кричали так, что Виардо казалось – не убьют ли друг друга эти два скифа, шумевших на своем загадочном наречии. Но быть может, Фет – в другом смысле – попал и вовремя. Все-таки это свой человек, приятель, сосед по имению и художеству.
Тургенев многое ему рассказал – горькие и тяжелые вещи о себе и Полине. Сам он себя ненавидел: тогда лишь блаженствовал, когда женщина каблуком наступит ему на шею и вдавит лицо в грязь. А в одну горькую и больную минуту выкрикнул («заламывая руки над головою и шагая по комнате»):
– Боже мой, какое счастье для женщины быть безобразной!
Фет возвратился в Париж, но все запомнил. Перебрался осенью и Тургенев – на rue de Rivoli (а с января нанял квартиру 11, rue de l’Arcade). Много стонов мог бы записать Фет за эту зиму, едва ли не труднейшую для Тургенева. Точно бы все тут соединилось против него, начиная с климата: холода разразились беспощадные.
Случалось в рабочих кварталах, что ночью дети замерзали в колыбелях. Отопление и в порядочных квартирах было ужасное. Тургенев жестоко мерз. Приходилось сидеть за письменным столом в нескольких шинелях. Из-за холодов обострились его недомогания – открылись тяжелые боли в нижней части живота. Не мог не вспомниться отец, Сергей Николаевич, рано погибший от каменной болезни. Известна мнительность Тургенева. В болезнях все казалось ему всегда наихудшим. Толстой, находившийся тогда тоже в Париже, писал о нем Боткину: «Страдает морально так, как может только страдать человек с его воображением».
Тургенева лечили, прижигали, мучили… Ему предстояла еще, несмотря на мрачные мысли, долгая жизнь. Но, вспоминая о его мученическом конце, более понимаешь и подозрительность: будто острее других чувствовал он в себе страшного врага.
С Виардо ничего не налаживалось. С дочерью тоже нелегко. Поля давно превратилась во французскую Полину, так забыла все русское, даже язык, что не могла ответить отцу, как по-русски «вода», «хлеб», – зато отлично декламировала Мольера. Ей шел пятнадцатый год. С Полиною Виардо она не ужилась, да, может быть, теперь и самому Тургеневу не очень-то хотелось, чтобы она у ней оставалась. Он взял дочери гувернантку, английскую даму Иннис, и втроем поселились они на rue de l’Arcade.
Больной, раздираемый любовными страданиями отец, подросток-дочь, выросшая в чужой стране, в чужой семье полусироткой, полу из милости, характером не из удобных, отца совершенно не знавшая и близости к нему не чувствовавшая, да английская гувернантка – невеселое сообщество.
На душе у Тургенева мрачно. Все не нравится, все не по нем. Не нравится он сам себе, не нравится писание. В настроении, не столь от гоголевского далеком, уничтожает он свои рукописи. «Таланта с особенной физиономией и целостностью у меня нет…» – значит, и пусть все насмарку. «Были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали – повторяться не хочется – в отставку!»
Зима 56/57 г., редкая у Тургенева, ничего литературе не дала. Не жизнь была, а прозябание. И то, что не писал, что пал духом и потерял (временно) веру в свое дарование, еще больше угнетало.
И Париж, и парижская жизнь, и литература – все не по нем, все не так. «Я замечаю одно обстоятельство: я ни одного француза не полюбил в течение этой зимы, ни с одним симпатически не сблизился». «Французская фраза мне так же противна, как и вам – и никогда Париж не казался мне столь прозаически-плоским». «Милый Яков Петрович, вы пеняете на меня за то, что я не пишу, а я именно потому не пишу ни к вам, ни к друзьям вообще, что ничего веселого сказать не могу, а жаловаться и вздыхать не стоит. Мне всячески скверно, и физически, и нравственно; но в сторону это! Надеюсь, что мне лучше будет через месяц, т. е. когда я выеду из Парижа. Солон он мне пришелся, Бог с ним!» «Причина этого настроения вам известна: я об ней распространяться не стану. Она существует в полной силе – но так как я через три недели с небольшим покидаю Париж, то это придает мне несколько бодрости».
Тургенев поступил разумно – из Парижа весной уехал. Побывал в Лондоне, а летом попал в немецкий городок Зинциг, близ Рейна, недалеко от Бонна. В Зинциге пил воды, провел месяц. Хотя зимой казалось ему, что он больше ничего не напишет, но как раз тут, в Германии, и родилась «Ася». Старый немецкий городок, липы, виноградные усики, луна, петух на готической колокольне, белокурые девушки, гуляющие по вечерам, одиночество, Рейн – все это очень тургеневское, и, вероятно, очень его окрыляло. «Ася» вполне удалась. Повесть прославлена – действительно, налита поэзией. Может быть, несколько слишком «поэтична» (руины, закаты, луна, виноградники и т. п.). Но в ней есть и черта очень странная. Во всю прозрачность, остроту «поэтических» чувств введен резкий «мотивчик»: рассказчик приехал в старый городок потому, что искал уединения: «я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой». Эта вдова «сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту». Вдова упорно проходит через всю «Асю», служит центром раздражения и насмешки, претерпевает явную авторскую нелюбовь («не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове», «в течение вечера ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице» и т. д.). Повесть построена так, что чувство к вдове вытесняется – ощущением поэзии места, тихой простой жизни, образом самой Аси. Как будто надо отделаться от тяжелого и дурного – это и достигается в мирной, старомодной стране. Будто и горькая радость есть в том, чтобы вдову опошлить, принизить («краснощекий лейтенант…»).
Не так просто дается смирение. Не одна поэзия старой Германии в Тургенева вливалась. Острые, неизжитые страсти рождали карикатуру. (На подлинник умышленно не походившую. Но тем язвительнее укол.)
Он провел в Зинциге весь июль. Графине Ламберт так писал: «Я дурно себя чувствую и должен отсюда ехать, куда – не знаю сам». Вскоре попал в Булонь, и продолжает то же письмо: «Да, графиня, я решил воротиться, и воротиться надолго. Довольно я скитался и вел цыганскую жизнь».
Виардо же тем временем родила сына Поля. Тургенев по этому случаю написал ей письмо неестественно восторженное. «Hurrah! Ура! Lebehoch! Vivat! Ewiva! Zito!»… и даже восклицание по-старокельнски, по-арабски. Все оно вообще болезненно, в настоящей радости так не пишут. Боль, которую хочется заглушить театральным восторгом, в нем не скрыта.
Г-жа Виардо родила сына 20 июня 1857 г. Фет посетил Тургенева, только что приехавшего, в сентябре 1856-го – ровно девять месяцев тому назад… Дальше все тайна. Поль мог быть сыном Тургенева, пока тот не узнал о Шеффере. Мог быть и не его сыном. Во всяком случае, тут для Тургенева была драма.
* * *
В августе он попал в Булонь, на морские купанья. Затем – Париж. Далее все тот же ветер занес его на горестное пепелище – в Куртавенель. Отсюда пишет он Некрасову: «Ты видишь, что я здесь, т. е. что я сделал именно ту глупость, от которой ты предостерегал меня». Некрасов был практический и крепкий человек – знал, как в таких случаях надо действовать. Знал бы и покойный Сергей Николаевич Тургенев. Иван же Сергеевич, приехав туда, куда не надо, мог только вздыхать: «Так жить нельзя. Полно сидеть на краешке чужого гнезда. Своего нет, ну и не надо никакого».
Тем не менее после тоски Куртавенеля и ему удалось сделать правильный шаг: вновь двинулся он в путешествие, выбрал Италию, Рим. Лаврецкий, в сходном положении, поступил так же. («…Он поехал не в Россию, а в Италию». «Скрываясь в небольшом итальянском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женой».)
Тургенев в Италии уже бывал – давно, семнадцать лет назад, студентом. Тогда жилось легко, светло. Все – впереди. Теперь он – человек с рано поседевшими кудрями, нездоровый, упорно думающий о смерти, одинокий, с разгромленным сердцем. Но Италия осталась прежней и не обманула.
Боткин, с которым он отправился, не мог заменить Станкевича. Но оказался хорошим товарищем. Они вместе подъезжали к Риму на лошадях, в дилижансе, и первый вид на него открылся с Monte Mario, а вступили через Porta del Popolo. Тургенев остановился в Hotel de l’Angleterre, на via Bossa di Leone – там они и обедали с Боткиным.
Началась жизнь, какую не мог не вести Тургенев, как бы себя ни чувствовал: музеи, галереи, катакомбы, знакомство с художниками, Александр Иванов, заканчивавший свою знаменитую картину, поездки в Альбано, дикое Rocca di Papa, Фраскати, где вечерняя заря заливала их «нестерпимо пышным заревом, пылающим потоком кровавого золота». Вилла д’Эсте, книги, классики…
Осень и Рим шли к его настроению. Некогда этот Рим наполнял красотой молодую его душу. Теперь помогал изживать горе. Виардо ему не писала – не отвечала на письма. Но он переписывался с друзьями – Анненковым, графиней Ламберт. «Природа здешняя очаровательно величава – и нежна, и женственна в то же время. Я влюблен в вечнозеленые дубы, зончатые пинии и отдаленные бледно-голубые горы. Увы! я могу только сочувствовать красоте жизни – жить самому мне уже нельзя. Темный покров упал на меня и обвил меня; не стряхнуть мне его с плеч долой». Как так стряхнуть, если, сидя на Пинчио, увидав проезжающую в коляске даму, – вдруг бросает он собеседника и как сумасшедший кидается догонять экипаж: показалось, что это Полина.
Но он сам понимает, что нечто надо закончить. «В человеческой жизни, – пишет графине Ламберт, – есть мгновения перелома, мгновения, в которые прошедшее умирает и зарождается новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать – и либо придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело».
Риму и надлежало перевести Тургенева с одного пути на другой. Нелегко это давалось. Рим пустил в ход все свои прельщения. Осень была чудесна. Все синеющие небеса, вся роскошь Испанской лестницы с красноватыми башнями Trinita del Monti, величие Ватикана, задумчивость базилик, тишина Кампаньи, фонтаны, Сивиллы, таинственная прахообразность земли – все говорило об одном, в одном растворяло сердце. У Тургенева были глаза, чтобы видеть. Были уши, чтобы слышать. «Рим удивительный город: до некоторой степени он может все заменить: общество, счастье, даже любовь». Вечность входила в него, меняла, лечила. Делалось это медленно. Он и сам не все видел. Иногда болезнь неприятно раздражала и томила. Темные мысли – о судьбе, смерти, бренности именно с этого времени крепче в нем гнездятся. И все-таки Рим врачевал.
Это видно в самом его творчестве. Очень важно и очень хорошо, что он в Риме задумал (и частию написал) «Дворянское гнездо». В этих страданиях создал тишайший и христианнейший образ Лизы. Той зимой ему приоткрылся просвет, могший дать утешение: путь религии. Для себя он, к несчастию, его не принял. Но с любимою героинею по нем шел, значит, как-то, в чужой жизни, художнически, но изжил. Изживал в «Дворянском гнезде» и другое. Вся история Лаврецкого и жены, изменившей ему с белокурым смазливым мальчиком лет двадцати трех, – еще не остывшее личное. По напряжению, резкости эти страницы «Асе» не уступают. «Изменница» и соперник тоже унижены (там «краснощекий баварский лейтенант», здесь ничтожный Эрнест). Лаврецкий, узнав об измене Варвары Павловны (дело происходит в Париже), взял карету и велел везти себя за город. И вот ночь, которую проводил он в окрестностях, останавливаясь и всплескивая руками, то безумствуя, то странно смеясь, и этот «дрянной загородный трактир», куда в отчаянии зашел, взял там комнату, сел у окна и, судорожно зевая, восстановляя воображением весь свой позор, просидел до утра… это еще все не смирение. Но эпизод потонул – в другом. Общий тон – Лиза, тишина, благообразная няня, милая тетушка Марфа Тимофеевна, зеленое безмолвие деревенской России, последняя заря дворянского быта и (за сценой) медленный монастырский перезвон.
«Дворянское гнездо» чудесно проникнуто старой Россией. Приближались шестидесятые годы. Пора было прощаться с ней – Тургенев распрощался щедро, всеми средствами таланта зрелого, в самом цветении (хотя прошлой зимой в Париже ему и казалось, что все кончено). Для себя лично он прощался в романе с «тревожной» полосой жизни, когда есть надежды. Он отходил от них, пытался отходить от «счастия» и как бы обрекал себя на бесприютную художническую жизнь. Рим и Италия помогали ему в этом.
Но не один Рим и не одна Италия. «Дворянское гнездо» слагалось небыстро. В Италии родилось основное зерно его. Здесь больше думал Тургенев о нем, чем писал. Писание шло иначе.
Весной 1858 г. он тронулся из Рима. Остановился во Флоренции, где успевал подолгу спорить с Аполлоном Григорьевым, остановился в Вене: там лечил его профессор Зигмунд, прописавший воды. В Дрездене встретился с Анненковым, в Лейпциге слушал Виардо и писал в Париж дочери, что из-за этого задерживается. Побывал затем и в Париже, в Лондоне. Летом же оказался у себя в Спасском.
На этот раз довольно близко подошел к нему Фет, у них получился союз поэтическо-охотницкий. Фет читал свои стихи, переводы. Тургенев следил по подлиннику, критиковал, одобрял, смотря по качеству работы. Затем закатывались они на охоту, как истинные баре и художники. Вперед отправлялась тройка с охотником Афанасием, поваренком и всяческой снедью. На другой день выезжал тарантас, тоже тройкой, – Тургенев с Фетом. Ехали вдаль. Например, днем из Спасского, вечером в городишке Волхове ночлег, на таком постоялом дворе с иконами в горнице, что хозяйка не позволяет тургеневской Бубульке и в комнату войти. Приходится долго доказывать, убеждать, что это особенная собака, деликатная, не «пес», никакой нечистоты от нее быть не может. Следующий день опять все едут, ночуют у знакомых помещиков – уже в другой губернии, и на третий день забираются в глушь Полесья, где тетерева гуляют по вырубкам как куры в курятнике, – там начинают поэты свои гомерические охоты. Наперебой палят из шомпольных ружей, у Тургенева заряды приготовлены заранее (!), и это огорчает Фета, которому больше приходится возиться с насыпанием в ствол пороха, дроби. Настрелянных тетеревов на привале потрошат верные слуги, обжаривают, набивают можжевельником – лишь в таком виде можно довезти их домой.
Печет солнце, льют дожди, охотники укрываются под березами, но все же мокнут, потом сохнут, вновь стреляют, соперничают в ловкости стрельбы, усталые заваливаются спать на сеновалах, утром умываются ледяною водой, днем лакомятся дичиной, удивительной земляникой в молоке, которой Фет пожирает целые миски, раскрывая рот «галчатообразно»… Россия дышит на них дыханием лесов, полей, всей страшной силой необъятности своей.
В жизни этой, между охотами и чтением стихов, среди полей Новоселок или в парке Спасского, то в чувствах горестных, то в относительном успокоении дозревает «Дворянское Гнездо».
Едет Тургенев с Фетом, например, в дальнее имение Тапки. Старый слуга, стерегущий запертый дом, отворяет его. Они ночуют среди безмолвия, глубокой тишины, зелени и меланхолии запущенного места: Лаврецкий приехал к себе в Лаврики в таком же настроении «отказа» и смирения. (Именно тут он и будет потом удить рыбу с Лизой.)
В июле Тургенев уже работает над романом, рождающимся под двойным благословением – Италии и деревенской России, рождаемым под крестом горя, одиночества, неудачной любви. Дорого обошлась поэту слава романа…
Но если бы в то время посмотреть на Тургенева со стороны, не всякий раз и угадал бы, что с ним: он бывал временами и очень весел, по-детски шумлив. Например, занимаются они с Фетом тем, что наперегонки ходят вокруг клумбы – Тургенев горд, что идет быстрей «несчастного толстяка с кавалерийскою походкой», – и на десятом кругу обгоняет Фета на полклумбы. Или: Фет читает ему свой перевод из Шекспира. Тургенев следит по подлиннику. В одном месте Фет переводит (говоря о сердце): «О, разорвись!» Тургеневу не нравится. Фет пускает вариант: «О, лопни!» Тургеневу опять не нравится. «Тогда, – говорит Фет, – как заяц, с криком прыгающий над головами налетевших борзых, я рискнул воскликнуть: “Я лопну!”»
Тургенев прямо с дивана, разразившись хохотом, бросается на пол, кричит и ползает как ребенок от восторга.
Дело происходит у Фета в имении – на крик вбегают дамы, не менее, вероятно, изумленные, чем некогда в Париже Наталия Герцен и Тучкова при театральных упражнениях Тургенева. А рядом с этим и под всем этим Лаврецкий в последний раз приезжает в дом Лизы Калитиной, где быстро отцвел его роман. Сидя на скамейке, под старыми липами, смотрит на беготню, шум, радость молодежи – Лаврецкий, вкусивший уже (ему сорок лет!) смирения зрелости, сознания, что жизни со счастием для него быть не может.
В это время с особенной остротой переживал, пережевывал Тургенев дела своего сердца: как боли физические, то обострялась, то ослабевала тоска. «Дворянское гнездо» – первое временное ее преодоление. (Как раз летом 1858 г. скончался Ари Шеффер, друг Полины. Тургенев нашел в себе силы тепло и задумчиво написать ей о его смерти.)
Осенью он повез роман в столицу. Успех на этот раз оказался решающим. Толстой еще не написал «Войны и мира». Достоевский находился в ссылке.
Соперников Тургеневу в литературе не было.
А вот следующее письмо, тоже июньское: «Я не рассчитываю более на счастье для себя, т. е. на счастье в том опять-таки тревожном смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами… Впрочем, на словах-то мы все мудрецы: а первая попавшаяся глупость пробежи мимо, так и бросишься за нею в погоню. Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, я, кажется, ничего больше не делал, как гонялся за глупостями. Дон Кихот, по крайней мере, верил в красоту своей Дульцинеи, а нашего времени Дон Кихоты и видят, что их Дульцинея урод, а все бегут за нею».
Слова странные, но знаменательные. Надежды на счастье нет, а гнаться за ним все же хочется. Ехать за границу опасно, а все-таки едет. Дульцинея не такая уж и красавица…
Ясно, к кому это относится. Слово соскочило тяжелое, грубое. Какой-то надлом уже был. Что-то задело. И в то же время – свободы, равнодушия нет. Будто и переписка заглохла, и другие уклоны являлись, и годы подходят (к сорока он считал себя уже «стариком»), а все-таки… грустно сидеть в великолепном Спасском, где легко завести десять Фетисток, но где нет единственной, некрасивой Полины Виардо.
И он тронулся – 21 июля 1856 г. на пароходе в Штеттин, как некогда, в молодости, выезжал в дальние края учиться. Тогда боялся матери, тайком играл на пароходе и чуть не погиб в пожаре. Теперь мать давно в могиле. Пожара не случилось, в штосс он играть мог бы, да не хотелось – зато поездка вся была азартной игрой. Он ставил крупно, на Виардо и на все будущее свое…
Из Штеттина во Францию, снова осень в Куртавенеле. Снова Виардо, замок времен Франциска, парк, милые пруды, каналы, тополя, дубы и вязы, леса, поля, где стреляли они с Луи Виардо куропаток. Будто бы все прежнее, но все и другое. Дорого пришлось платить этою осенью за дни былых куртавенельских радостей!
Шесть лет разлуки оказались не пустяк. Фетистка, Ольга Александровна – с его стороны. Была ли у женщины в расцвете сил, с натурой и темпераментом Виардо-Гарсиа вся душа прикована к старому, бесцветному мужу, охотнику за жаворонками и куропатками? Могла ли она так уж отдаться загадочному русскому другу, шесть лет безвыездно прожившему в Скифии, не столь много ей и писавшему, имевшему связь, чуть не женившемуся? Надо быть справедливым: Виардо не бралась за роль Пенелопы. Но вот теперь, после шести лет отсутствия, этот туманный, мечтательный друг появляется… Началось что-то новое.
Нет сомнения, что, вернувшись, он увидал такое, о чем издали, может быть, и догадывался, но не знал точно. А теперь вложил персты. Молва называла его соперником известного художника Ари Шеффера, близкого человека к Полине – он писал и ее портрет.
Тут и оказалось, что, пока жил Тургенев в Спасском, блистал в Петербурге, Полина представлялась ему петраркической мечтой, смутно вздыхательной, к которой жизненно не так уж он и стремился. Теперь, увидев, что его дело проиграно, испытал все, что полагается. В страстности, умении страдать, ненавидеть, оскорблять или впадать в болезненный восторг проявил даже неожиданную силу.
Как раз тою же осенью Фет находился во Франции. Смесь замечательного поэта с грубоватым помещиком, поклонника Шопенгауэра с провинциальным офицером, Фет явился в Куртавенель на зов Тургенева, но не особенно удачно. Тургенев что-то перепутал. В расстройстве чувств забыл – и вышло так, что в день приезда Фета он надолго отправился с Луи Виардо стрелять куропаток. Лошадей в Розье не выслали, Фета подвез случайный фермер. В замке удовольствие приема выпало самой Полине. Она повела гостя на прогулку. Охотников встретили только под вечер, выйдя в поле, – и как раз в Куртавенеле в эти дни были гости, так что и поместить приезжего оказалось нелегко. Все-таки он провел здесь несколько дней.
Некоею своей аляповатостью, видом армейского офицера endimanchе[52 - Прифранченного (франц.).], несмешными анекдотами на плохом французском языке, кольцами на руках, произвел он впечатление неприятное. С Тургеневым иногда запирался и спорил. Кричали так, что Виардо казалось – не убьют ли друг друга эти два скифа, шумевших на своем загадочном наречии. Но быть может, Фет – в другом смысле – попал и вовремя. Все-таки это свой человек, приятель, сосед по имению и художеству.
Тургенев многое ему рассказал – горькие и тяжелые вещи о себе и Полине. Сам он себя ненавидел: тогда лишь блаженствовал, когда женщина каблуком наступит ему на шею и вдавит лицо в грязь. А в одну горькую и больную минуту выкрикнул («заламывая руки над головою и шагая по комнате»):
– Боже мой, какое счастье для женщины быть безобразной!
Фет возвратился в Париж, но все запомнил. Перебрался осенью и Тургенев – на rue de Rivoli (а с января нанял квартиру 11, rue de l’Arcade). Много стонов мог бы записать Фет за эту зиму, едва ли не труднейшую для Тургенева. Точно бы все тут соединилось против него, начиная с климата: холода разразились беспощадные.
Случалось в рабочих кварталах, что ночью дети замерзали в колыбелях. Отопление и в порядочных квартирах было ужасное. Тургенев жестоко мерз. Приходилось сидеть за письменным столом в нескольких шинелях. Из-за холодов обострились его недомогания – открылись тяжелые боли в нижней части живота. Не мог не вспомниться отец, Сергей Николаевич, рано погибший от каменной болезни. Известна мнительность Тургенева. В болезнях все казалось ему всегда наихудшим. Толстой, находившийся тогда тоже в Париже, писал о нем Боткину: «Страдает морально так, как может только страдать человек с его воображением».
Тургенева лечили, прижигали, мучили… Ему предстояла еще, несмотря на мрачные мысли, долгая жизнь. Но, вспоминая о его мученическом конце, более понимаешь и подозрительность: будто острее других чувствовал он в себе страшного врага.
С Виардо ничего не налаживалось. С дочерью тоже нелегко. Поля давно превратилась во французскую Полину, так забыла все русское, даже язык, что не могла ответить отцу, как по-русски «вода», «хлеб», – зато отлично декламировала Мольера. Ей шел пятнадцатый год. С Полиною Виардо она не ужилась, да, может быть, теперь и самому Тургеневу не очень-то хотелось, чтобы она у ней оставалась. Он взял дочери гувернантку, английскую даму Иннис, и втроем поселились они на rue de l’Arcade.
Больной, раздираемый любовными страданиями отец, подросток-дочь, выросшая в чужой стране, в чужой семье полусироткой, полу из милости, характером не из удобных, отца совершенно не знавшая и близости к нему не чувствовавшая, да английская гувернантка – невеселое сообщество.
На душе у Тургенева мрачно. Все не нравится, все не по нем. Не нравится он сам себе, не нравится писание. В настроении, не столь от гоголевского далеком, уничтожает он свои рукописи. «Таланта с особенной физиономией и целостностью у меня нет…» – значит, и пусть все насмарку. «Были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали – повторяться не хочется – в отставку!»
Зима 56/57 г., редкая у Тургенева, ничего литературе не дала. Не жизнь была, а прозябание. И то, что не писал, что пал духом и потерял (временно) веру в свое дарование, еще больше угнетало.
И Париж, и парижская жизнь, и литература – все не по нем, все не так. «Я замечаю одно обстоятельство: я ни одного француза не полюбил в течение этой зимы, ни с одним симпатически не сблизился». «Французская фраза мне так же противна, как и вам – и никогда Париж не казался мне столь прозаически-плоским». «Милый Яков Петрович, вы пеняете на меня за то, что я не пишу, а я именно потому не пишу ни к вам, ни к друзьям вообще, что ничего веселого сказать не могу, а жаловаться и вздыхать не стоит. Мне всячески скверно, и физически, и нравственно; но в сторону это! Надеюсь, что мне лучше будет через месяц, т. е. когда я выеду из Парижа. Солон он мне пришелся, Бог с ним!» «Причина этого настроения вам известна: я об ней распространяться не стану. Она существует в полной силе – но так как я через три недели с небольшим покидаю Париж, то это придает мне несколько бодрости».
Тургенев поступил разумно – из Парижа весной уехал. Побывал в Лондоне, а летом попал в немецкий городок Зинциг, близ Рейна, недалеко от Бонна. В Зинциге пил воды, провел месяц. Хотя зимой казалось ему, что он больше ничего не напишет, но как раз тут, в Германии, и родилась «Ася». Старый немецкий городок, липы, виноградные усики, луна, петух на готической колокольне, белокурые девушки, гуляющие по вечерам, одиночество, Рейн – все это очень тургеневское, и, вероятно, очень его окрыляло. «Ася» вполне удалась. Повесть прославлена – действительно, налита поэзией. Может быть, несколько слишком «поэтична» (руины, закаты, луна, виноградники и т. п.). Но в ней есть и черта очень странная. Во всю прозрачность, остроту «поэтических» чувств введен резкий «мотивчик»: рассказчик приехал в старый городок потому, что искал уединения: «я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой». Эта вдова «сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту». Вдова упорно проходит через всю «Асю», служит центром раздражения и насмешки, претерпевает явную авторскую нелюбовь («не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове», «в течение вечера ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице» и т. д.). Повесть построена так, что чувство к вдове вытесняется – ощущением поэзии места, тихой простой жизни, образом самой Аси. Как будто надо отделаться от тяжелого и дурного – это и достигается в мирной, старомодной стране. Будто и горькая радость есть в том, чтобы вдову опошлить, принизить («краснощекий лейтенант…»).
Не так просто дается смирение. Не одна поэзия старой Германии в Тургенева вливалась. Острые, неизжитые страсти рождали карикатуру. (На подлинник умышленно не походившую. Но тем язвительнее укол.)
Он провел в Зинциге весь июль. Графине Ламберт так писал: «Я дурно себя чувствую и должен отсюда ехать, куда – не знаю сам». Вскоре попал в Булонь, и продолжает то же письмо: «Да, графиня, я решил воротиться, и воротиться надолго. Довольно я скитался и вел цыганскую жизнь».
Виардо же тем временем родила сына Поля. Тургенев по этому случаю написал ей письмо неестественно восторженное. «Hurrah! Ура! Lebehoch! Vivat! Ewiva! Zito!»… и даже восклицание по-старокельнски, по-арабски. Все оно вообще болезненно, в настоящей радости так не пишут. Боль, которую хочется заглушить театральным восторгом, в нем не скрыта.
Г-жа Виардо родила сына 20 июня 1857 г. Фет посетил Тургенева, только что приехавшего, в сентябре 1856-го – ровно девять месяцев тому назад… Дальше все тайна. Поль мог быть сыном Тургенева, пока тот не узнал о Шеффере. Мог быть и не его сыном. Во всяком случае, тут для Тургенева была драма.
* * *
В августе он попал в Булонь, на морские купанья. Затем – Париж. Далее все тот же ветер занес его на горестное пепелище – в Куртавенель. Отсюда пишет он Некрасову: «Ты видишь, что я здесь, т. е. что я сделал именно ту глупость, от которой ты предостерегал меня». Некрасов был практический и крепкий человек – знал, как в таких случаях надо действовать. Знал бы и покойный Сергей Николаевич Тургенев. Иван же Сергеевич, приехав туда, куда не надо, мог только вздыхать: «Так жить нельзя. Полно сидеть на краешке чужого гнезда. Своего нет, ну и не надо никакого».
Тем не менее после тоски Куртавенеля и ему удалось сделать правильный шаг: вновь двинулся он в путешествие, выбрал Италию, Рим. Лаврецкий, в сходном положении, поступил так же. («…Он поехал не в Россию, а в Италию». «Скрываясь в небольшом итальянском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женой».)
Тургенев в Италии уже бывал – давно, семнадцать лет назад, студентом. Тогда жилось легко, светло. Все – впереди. Теперь он – человек с рано поседевшими кудрями, нездоровый, упорно думающий о смерти, одинокий, с разгромленным сердцем. Но Италия осталась прежней и не обманула.
Боткин, с которым он отправился, не мог заменить Станкевича. Но оказался хорошим товарищем. Они вместе подъезжали к Риму на лошадях, в дилижансе, и первый вид на него открылся с Monte Mario, а вступили через Porta del Popolo. Тургенев остановился в Hotel de l’Angleterre, на via Bossa di Leone – там они и обедали с Боткиным.
Началась жизнь, какую не мог не вести Тургенев, как бы себя ни чувствовал: музеи, галереи, катакомбы, знакомство с художниками, Александр Иванов, заканчивавший свою знаменитую картину, поездки в Альбано, дикое Rocca di Papa, Фраскати, где вечерняя заря заливала их «нестерпимо пышным заревом, пылающим потоком кровавого золота». Вилла д’Эсте, книги, классики…
Осень и Рим шли к его настроению. Некогда этот Рим наполнял красотой молодую его душу. Теперь помогал изживать горе. Виардо ему не писала – не отвечала на письма. Но он переписывался с друзьями – Анненковым, графиней Ламберт. «Природа здешняя очаровательно величава – и нежна, и женственна в то же время. Я влюблен в вечнозеленые дубы, зончатые пинии и отдаленные бледно-голубые горы. Увы! я могу только сочувствовать красоте жизни – жить самому мне уже нельзя. Темный покров упал на меня и обвил меня; не стряхнуть мне его с плеч долой». Как так стряхнуть, если, сидя на Пинчио, увидав проезжающую в коляске даму, – вдруг бросает он собеседника и как сумасшедший кидается догонять экипаж: показалось, что это Полина.
Но он сам понимает, что нечто надо закончить. «В человеческой жизни, – пишет графине Ламберт, – есть мгновения перелома, мгновения, в которые прошедшее умирает и зарождается новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать – и либо придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело».
Риму и надлежало перевести Тургенева с одного пути на другой. Нелегко это давалось. Рим пустил в ход все свои прельщения. Осень была чудесна. Все синеющие небеса, вся роскошь Испанской лестницы с красноватыми башнями Trinita del Monti, величие Ватикана, задумчивость базилик, тишина Кампаньи, фонтаны, Сивиллы, таинственная прахообразность земли – все говорило об одном, в одном растворяло сердце. У Тургенева были глаза, чтобы видеть. Были уши, чтобы слышать. «Рим удивительный город: до некоторой степени он может все заменить: общество, счастье, даже любовь». Вечность входила в него, меняла, лечила. Делалось это медленно. Он и сам не все видел. Иногда болезнь неприятно раздражала и томила. Темные мысли – о судьбе, смерти, бренности именно с этого времени крепче в нем гнездятся. И все-таки Рим врачевал.
Это видно в самом его творчестве. Очень важно и очень хорошо, что он в Риме задумал (и частию написал) «Дворянское гнездо». В этих страданиях создал тишайший и христианнейший образ Лизы. Той зимой ему приоткрылся просвет, могший дать утешение: путь религии. Для себя он, к несчастию, его не принял. Но с любимою героинею по нем шел, значит, как-то, в чужой жизни, художнически, но изжил. Изживал в «Дворянском гнезде» и другое. Вся история Лаврецкого и жены, изменившей ему с белокурым смазливым мальчиком лет двадцати трех, – еще не остывшее личное. По напряжению, резкости эти страницы «Асе» не уступают. «Изменница» и соперник тоже унижены (там «краснощекий баварский лейтенант», здесь ничтожный Эрнест). Лаврецкий, узнав об измене Варвары Павловны (дело происходит в Париже), взял карету и велел везти себя за город. И вот ночь, которую проводил он в окрестностях, останавливаясь и всплескивая руками, то безумствуя, то странно смеясь, и этот «дрянной загородный трактир», куда в отчаянии зашел, взял там комнату, сел у окна и, судорожно зевая, восстановляя воображением весь свой позор, просидел до утра… это еще все не смирение. Но эпизод потонул – в другом. Общий тон – Лиза, тишина, благообразная няня, милая тетушка Марфа Тимофеевна, зеленое безмолвие деревенской России, последняя заря дворянского быта и (за сценой) медленный монастырский перезвон.
«Дворянское гнездо» чудесно проникнуто старой Россией. Приближались шестидесятые годы. Пора было прощаться с ней – Тургенев распрощался щедро, всеми средствами таланта зрелого, в самом цветении (хотя прошлой зимой в Париже ему и казалось, что все кончено). Для себя лично он прощался в романе с «тревожной» полосой жизни, когда есть надежды. Он отходил от них, пытался отходить от «счастия» и как бы обрекал себя на бесприютную художническую жизнь. Рим и Италия помогали ему в этом.
Но не один Рим и не одна Италия. «Дворянское гнездо» слагалось небыстро. В Италии родилось основное зерно его. Здесь больше думал Тургенев о нем, чем писал. Писание шло иначе.
Весной 1858 г. он тронулся из Рима. Остановился во Флоренции, где успевал подолгу спорить с Аполлоном Григорьевым, остановился в Вене: там лечил его профессор Зигмунд, прописавший воды. В Дрездене встретился с Анненковым, в Лейпциге слушал Виардо и писал в Париж дочери, что из-за этого задерживается. Побывал затем и в Париже, в Лондоне. Летом же оказался у себя в Спасском.
На этот раз довольно близко подошел к нему Фет, у них получился союз поэтическо-охотницкий. Фет читал свои стихи, переводы. Тургенев следил по подлиннику, критиковал, одобрял, смотря по качеству работы. Затем закатывались они на охоту, как истинные баре и художники. Вперед отправлялась тройка с охотником Афанасием, поваренком и всяческой снедью. На другой день выезжал тарантас, тоже тройкой, – Тургенев с Фетом. Ехали вдаль. Например, днем из Спасского, вечером в городишке Волхове ночлег, на таком постоялом дворе с иконами в горнице, что хозяйка не позволяет тургеневской Бубульке и в комнату войти. Приходится долго доказывать, убеждать, что это особенная собака, деликатная, не «пес», никакой нечистоты от нее быть не может. Следующий день опять все едут, ночуют у знакомых помещиков – уже в другой губернии, и на третий день забираются в глушь Полесья, где тетерева гуляют по вырубкам как куры в курятнике, – там начинают поэты свои гомерические охоты. Наперебой палят из шомпольных ружей, у Тургенева заряды приготовлены заранее (!), и это огорчает Фета, которому больше приходится возиться с насыпанием в ствол пороха, дроби. Настрелянных тетеревов на привале потрошат верные слуги, обжаривают, набивают можжевельником – лишь в таком виде можно довезти их домой.
Печет солнце, льют дожди, охотники укрываются под березами, но все же мокнут, потом сохнут, вновь стреляют, соперничают в ловкости стрельбы, усталые заваливаются спать на сеновалах, утром умываются ледяною водой, днем лакомятся дичиной, удивительной земляникой в молоке, которой Фет пожирает целые миски, раскрывая рот «галчатообразно»… Россия дышит на них дыханием лесов, полей, всей страшной силой необъятности своей.
В жизни этой, между охотами и чтением стихов, среди полей Новоселок или в парке Спасского, то в чувствах горестных, то в относительном успокоении дозревает «Дворянское Гнездо».
Едет Тургенев с Фетом, например, в дальнее имение Тапки. Старый слуга, стерегущий запертый дом, отворяет его. Они ночуют среди безмолвия, глубокой тишины, зелени и меланхолии запущенного места: Лаврецкий приехал к себе в Лаврики в таком же настроении «отказа» и смирения. (Именно тут он и будет потом удить рыбу с Лизой.)
В июле Тургенев уже работает над романом, рождающимся под двойным благословением – Италии и деревенской России, рождаемым под крестом горя, одиночества, неудачной любви. Дорого обошлась поэту слава романа…
Но если бы в то время посмотреть на Тургенева со стороны, не всякий раз и угадал бы, что с ним: он бывал временами и очень весел, по-детски шумлив. Например, занимаются они с Фетом тем, что наперегонки ходят вокруг клумбы – Тургенев горд, что идет быстрей «несчастного толстяка с кавалерийскою походкой», – и на десятом кругу обгоняет Фета на полклумбы. Или: Фет читает ему свой перевод из Шекспира. Тургенев следит по подлиннику. В одном месте Фет переводит (говоря о сердце): «О, разорвись!» Тургеневу не нравится. Фет пускает вариант: «О, лопни!» Тургеневу опять не нравится. «Тогда, – говорит Фет, – как заяц, с криком прыгающий над головами налетевших борзых, я рискнул воскликнуть: “Я лопну!”»
Тургенев прямо с дивана, разразившись хохотом, бросается на пол, кричит и ползает как ребенок от восторга.
Дело происходит у Фета в имении – на крик вбегают дамы, не менее, вероятно, изумленные, чем некогда в Париже Наталия Герцен и Тучкова при театральных упражнениях Тургенева. А рядом с этим и под всем этим Лаврецкий в последний раз приезжает в дом Лизы Калитиной, где быстро отцвел его роман. Сидя на скамейке, под старыми липами, смотрит на беготню, шум, радость молодежи – Лаврецкий, вкусивший уже (ему сорок лет!) смирения зрелости, сознания, что жизни со счастием для него быть не может.
В это время с особенной остротой переживал, пережевывал Тургенев дела своего сердца: как боли физические, то обострялась, то ослабевала тоска. «Дворянское гнездо» – первое временное ее преодоление. (Как раз летом 1858 г. скончался Ари Шеффер, друг Полины. Тургенев нашел в себе силы тепло и задумчиво написать ей о его смерти.)
Осенью он повез роман в столицу. Успех на этот раз оказался решающим. Толстой еще не написал «Войны и мира». Достоевский находился в ссылке.
Соперников Тургеневу в литературе не было.