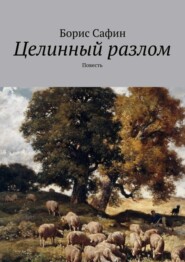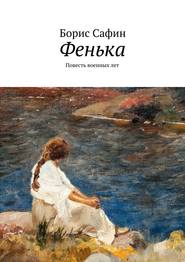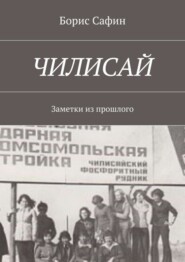По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рязанский сказ. От Мурома до Рязани
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И прицеп для денег, – передразнил дочку Славик.
– Я думаю, что нам нужно всю полученную информацию, подтвердить реальными фактами. Какие будут предложения?
– Съездить в Муром. Там наверняка есть музей, – первой высказала мысль внучка Настя.
– Съездить в Касимов, – добавила Наталья.
– Съездить в деревню Дьяконово. Может, живы еще те, кто знал Дьяконовых, – добавил дед.
– Обратиться в областной архив, – Ольга уверенно посмотрела на отца.
– Дождаться Виктора Мусатова, посмотреть, что он привезет, а потом делать выводы и решать, – Катерина в своем голубом платье, действительно, выглядела, как королева, по случаю посетившая крестьянскую избу.
– Мама права. Нам еще рано куда-то ехать. Фактов маловато. Все на словах и на эмоциях. Дождемся Виктора, а там определимся. Два месяца можно потерпеть. А вот, чего терпеть нельзя, так это сидеть без чая! Наташа! Неси чайник и все остальное. Не будем Катерину по пустякам беспокоить. А ты Оля, узнай у своей знакомой, как обстановка по тетрадке. К Витиному приезду нужно знать больше.
– Хорошо папа. Завтра я заскочу к Вере Сергеевне…
…Вера Сергеевна читала дневник, а мысли уносили её в далекое прошлое, в глухие леса Мещерского края. Там, среди величавых сосен и кудрявых берез, в разбросанных по солнечным опушкам деревнях, жил простой люд…
© «Деревня Шепелёво приютилась по краю дремучего хвойного леса, который оберегала своими бегучими водами Ока-матушка. Убегая от Рязанских куполов, стремилась на север, к Великой Волге-реке, но у Касимова, будто, что-то забыв, поворачивала обратно. Затем, еще раз напоив Мещерские леса, уже спокойно, простившись с Ташенкой, несла свои воды на Выксу, Муром и до самой Москвы-реки. Если утром сесть на лодку «Гусяну» в Рубецком, что в десяти верстах от Шепелёва, то вечером вернешься в Ташенку, в четырех верстах от деревни.
Крестьянская семья Рязанской губернии
Деревенские мужики, когда барин разрешал съездить на ярмарку, гадали: «Ежели ехать в Ташенку, то товару в Токарёве, как пить, будет больше! Ежели выбрать Токарёво, то гулянье в Ташенке пропустим! Куды податси?» Бабы не выбирали: «Куды? Куды? В Лом помолитси, а посля в Ташенке повеселитси. В Токарёве ситцу оне больше, да чаго в нёму проку? Все одно разбойники отберуть». Своя правда у баб, конечно была. В Ломе находилась Богородицерожденственнская церковь, куда были приписаны шепелеские и бреевские прихожане. В Ташенку дорога открытая, перегнул через бугор, проехал Бреево и вот она Ташенка, с красивыми каруселями и разноцветными торговыми рядами. Ежели в Токарёве товар Рязанский, то в Ташенке сплошь Муромский, да Касимовский. «Ежли усе срази хотца, то ничаго ня будять!». Логика у баб железная, проверенная временем. Путь из деревни, что в Ташенку, что в Токарёво одинаковый – четыре версты с вершком. Но дорога в Токарёво идет по глухому лесу, и только по зимнику можно пробраться среди вековых сосен. В том году, на Рождество, «темные люди» перегородили дорогу повальным лесом, да отобрали все, что купили мужики на ярмарке. С двух телег! С той поры зарок: меньше пяти телег не собирать, да каждому «цепа с крепкими гужами» с собою брать. Шепелевские мужики – народ крепкий, гужилистый. Взять, того ж Ваньку Мусата. На Троицу кулачные бои устроили. Так Ванька Мусат троих побил. Росту небольшого, а Яфима Темного враз на землю бросил, хоть Ефим выше Ваньки на целую голову. После того случая, с Ванькой, никто на бой не выходил. А бреевские ребята, как узнали, все спрашивали: «Кажите, игде Мусат будять? Мы с ням битси не будям! Другага ставь». До того случая Ванька Мусат и так был в уважении. Его отец – Дмитрий Гаврилович, из вольноотпущенных, у барина в кузне работал. С детства приучил Ваньку железо гнуть. Особенно получалось у Ваньки ножи точить. Как-то привез он из Клетинских мастерских мусаты с ручками и вручил Ивану: «Будя тоби игратси. Надявай запон и ширкай, пока бока у ножей не заблестять». С тех пор стали Ваньке ножи, косы, серпа привозить: и из Бреево, и из Лома, даже из Сидорова и Ташенки. Когда отец слёг, управляющий имением, Анисим Данилович, Ивана ко двору приставил: «Будешь вторым помощником кузнеца. Больно шибко у тебя енто дело клеится! Довольствие будешь получать, как дворовой, отцу поможешь. С Эммануилом Ивановичем я договорюсь». А, через год, сам Эммануил Иванович Баташов лично хвалил Ваньку за хорошую работу:
«Гляжу я, талант у тебя к слесарному делу. Если за год подготовишь себе ученика прилежного, то заберу я тебя в Гусь-Железный. Мне мастеровые ох – как нужны! Что в Гусе, что на Выксе. А могу в Клетино определить, в мастерские. Или в кузницу, что в Гусевском Погосте. Сколько сейчас тебе годков? Двадцать уже? Добре. Жена есть?
– Рано ящо, – Ванька смутился: «Чаго барин до мойой жизне привязалси? Щас свиязев набьеть и укатить в свой Гусь. Врёть, що заберёть. А тама можа и ничо? Можа хватить в энтой гразе ковырятьси?» – Ванька призадумался, – А вы, таго, не обманети?
– Баташевы своё слово всегда держат. Вон Анисим Данилович может подтвердить, – Эммануил Иванович подозвал стоящего в сторонке управляющего.
– Ай-яньки! Чего изволите, Эммануил Иванович? – управляющий изогнулся «вопросительным знаком» навстречу барину, заглядывая ему в глаза.
– Хочу я тебе, любезный Анисим Данилович, дать поручение.
– С привеликим удовольствием исполню, барин. Поручайте.
– Во-первых: приставь к Ивану ученика из смышленых крепостных. Иван пообещал сделать из него такого же мастера, как он. Верно, я говорю, Иван?
– Верно, – Иван точно помнил, что ничего еще не обещал, но перечить не стал.
– Во-вторых, найди ему хорошую девку. Негоже ему в холостяках ходить. Не ровен час, начнет девок портить. Вон, как кровь по ногам бьет! И домовитую девушку подбери, чтоб мужа, как любимого коня берегла. Справишься?
– Подберу! Чего ж не подобрать. Будет узду крепко держать, – управляющий никак не мог понять: это шутка, или приказ?: «Если он хочет Ваньку в свое „Орлиное гнездо“ увезти, то и мне можно? Вон, моя Зинаида, как расцвела. Чем не пара Ивану? Вот, она удача. Сама в руки идет!» – Анисим Данилович уже представил себя «франтом в бабочке», прогуливающимся «по столице Баташевского царства».
– Ты меня слышишь? К следующему моему приезду на токовище доложишь об исполнении. И смотри у меня! Ты меня знаешь. И сходи на кухню, проверь, чтобы к свиязям яблочек не забыли положить.И скажи там: если рябчики, как вчера будут холодными, то разгоню всех к чертовой матери. Чтобы меня больше не позорили перед гостями…
? …Борис вглядывался в поток людей, идущих по перрону рязанского вокзала и, переживал: «Как бы ни пропустить. Когда я Виктора последний раз видел? В 80-м? 79-м? Тогда он был молодой, коренастый, с копной светлых волос, солдат. А сейчас, наверное, поджарый, подсохший, поседевший, а может полысевший дедок. Как, вон тот, что с сумками поспешает за моложавой тётенькой. Ой! Они мне руками машут! Да, это и есть Виктор. А с ним Галина его. Вот концерт!».
– Как вы меня узнали? Я вот Виктора не узнал.
– А чево тут узнавать? Ты же сказал: маленький, лысый, толстенький, – Галина осмотрелась по сторонам, – Так ты здесь один такой, на весь перрон.
До позднего часа просидели Катерина и Виктор, перебивая друг друга, одновременно задавая вопросы и, одновременно отвечая на них, чем до слёз забавляли деда Бориса. На следующий день, за накрытым столом, Борис представлял свою семью:
– Ольгу и Наташу ты, надеюсь, помнишь, правда, они еще маленькие были.
– Как же, помню. Олечка уже в школу бегала, а Наташе годика три было, с коленок не слазила, забавная такая. Между прочим, своих детей я тоже Наташей и Ольгой назвал.
– Не зря же в один день, и один год родились. Значит, к нам мысли одни и те – же приходят, – Катерина подложила кусочек торта Галине, – Не удивлюсь, если они и профессии выбрали одинаковые.
– Не перебивай меня, Катя, – Борис замахал руками, – Ольга у нас в областном архиве работает, а Наташа по поварской линии пошла. Сейчас шеф-повар в элитном ресторане. А какие она торты печет! Кофе-брейки разные там. Объедение!
– Вижу по столу, что мастер в этом деле, – Галина с восхищением кивнула на стол.
– А это Славик наш, муж Наташи. Завтра проедем по Рязани, посмотрите, какие он вещи делает из металла. Художественное литье, декоративные решетки, заборы, беседки. Недавно из Москвы вернулся, устанавливал решетки на доме – музее художника Рериха.
– Ну, немного не так, – засмущался Славик, – У нас бригада по художественной ковке. Я не один. У нас ребята такие вещи делают, что глаз не оторвешь. А вообще-то я сварщик.
– Я сказал бы: не только сварщик. Вон, с Наташей, какое чудо создали! Наша внучка Яночка. Наша артистка и красавица. Лауреат многих международных вокальных конкурсов. Успела побывать во многих городах России даже в Эстонии, Швеции, Финляндии и, забыл еще где. Мы были с Катей как-то на одном концерте. Выходит ведущая и объявляет: «А сейчас на сцену приглашается лауреат национальных и международных конкурсов, солистка ансамбля „Дети солнца“ Яна Горинова!» У нас с бабушкой сердце из груди выскакивает, от гордости. Осенью готовится поступать в музыкальное училище. А это Настя, вторая внучка, Ольгина дочка. В колледже получила специальность по компьютерам и работает на знаменитом приборном заводе. А это наш маленький, капризный «хулиганчик» – Егор. Ему только полгодика исполнилось. А где твои девочки, Наташа с Ольгой работают?
– Наташа работает в молодежном центре, педагог, а Ольга в торговом центре.
– Ну, вот и познакомились. Теперь наше семейство увеличилось в два раза. На следующий год обязательно приедем к вам в Оренбург. И спасибо за информацию о предках Мусатовых. Теперь нужно время, чтобы во всем разобраться. Мы обязательно будем планировать поездку в Муром и Касимов. Хочется своими глазами увидеть, где Катины предки обитали, подышать их воздухом.
– А я то, как хочу, – Катя пыталась спрятать навернувшиеся слезы за Витиной спиной.
– Это я виноват, что подробно и в свое время не расспросил бабу Дуню и отца, когда они были живы. Знаю только, что дед Иван после революции работал в руководстве Рязани, заведовал кадрами или что-то в этом роде. Баба Дуня, Евдокия Аркадьевна Дьяконова, была дочь дьякона, из деревни Дьяконово. В 20-м, или 24-м они срочно уехали в Астрахань. В 43-м дед Иван неожиданно простудился и умер. Он до конца работал начальником переправы в Астрахани.
– А почему я раньше, когда была помоложе, об этом не знала?
– Никто не знал. Баба Дуня рассказала об этом только перед своей смертью. Даже детям своим не говорила.
– Да, я помню. Баба Дуня скрытная была. Поговаривали, что даже ворожить умела. Мои тетки Лукановы часто говорили: «Ишь ты, барыня нашлась, нос от всех воротит. Знаться ни с кем не хочет. Все у ней на уме».
– Вот, здесь ты сестренка в самую точку попала. Мы сначала думали, что она заговариваться начала, но она настаивала на своем: «Видит бог, что правду говорю! Не верите, Антонине напишите в Поповку. Отца моего, Аркадия, в революцию, с колокольни прямо на колья сбросили. Церковь, где он служил, недалеко от деревни Дьяконово была, в трех верстах, названия я уж не помню. Тута отец Ванькин, Георгий Иванович, объявился. Он в Касимове торговлей занимался. Купец второй гильдии. Вот мы и бежали от греха подальше».
– А почему тетки мне говорили, что она высокомерная была?
– А потому, что она из дворянского рода была. Её предки тоже купцами были.
– Час от часу не легче. Это ж, что получается? Ты, Екатерина Георгиевна не только купчиха по деду, но и дворянского роду по бабке? Как я теперь тебя на огород пущу, картошку полоть? Ни в жизнь! Будяшь таперя на паньке сидети и на цвяты глядети!
– Да! «Таперя мы такеи», – Борис заметил, что ни Ольга, ни Наташа, ни Катерина больше не прячут сверкающих от слез глаз…
© …«Жизнь в Шепелёво не отличалась разнообразием.
С весны деревня делилась на две части. Одна половина с раннего утра до позднего вечера копошилась на полях, что цепочкой огибали холмы, заросшие березняком. Вторая половина тянулась к лесу, к сушильным полянам: стаскивать лес, что зимой нарубили ломовские лесорубы и перевозить его телегами в Рубецкое для переправки плотов в Клетино, и в Ташенку для отправки плотов на Выксу. Подготовка бревна – дело тяжелое, но выгодное. Сначала бревна шкурили, распиливали ровно по две с половиной сажени и укладывали вдоль дороги. Затем перекладывали по мерке на две стопки: В треть аршина и в четверть аршина толщиной. Когда заканчивался ледоход на Оке, подавали длинные телеги и осторожно перевозили лес в Ташенку. В хороший год получалось не меньше трех тысяч телег. Если по четыре куба на телегу, то сезон обойдется в 12 тысяч кубов! А ещё «концов», после распила, получалось не меньше тысячу кубов! «Концы» развозили по избам, мало ли кому пригодится: на сарай, на баню. Если распил получался в сажень и более, то и избу можно поставить. А дрова? Баню топить сосной одно лечение! Мужики наловчились: сначала натопят березовыми дровами, чтобы стены нагрелись, а потом докладывали сосновыми чурочками, чтобы запах был, как в лесу! Хорошо! Не всегда так было. Когда лес подходил близко к деревне, бани строить запрещали. Боялись пожаров. Мылись в печах. Лет десять назад, когда после вырубки леса, образовались пропашные делянки, запрет сняли. Особенно радовались бабы, вспоминая ожоги на плечах после помывки в печи.