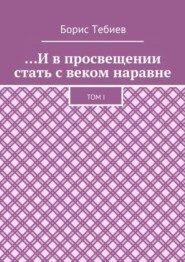По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайны книжных переплётов. 50 почти детективных историй
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В марте 1858 года Анастасию Кондратьевну разыскал вернувшийся из сибирской глуши Иван Иванович Пущин. Написал ей письмо с желанием увидеться, переслал 430 рублей серебром, свой давнишний долг Кондратию Федоровичу. Анастасия Кондратьевна немедленно ответила. В её письме, хранящемся ныне в Государственном историческом музее в Москве, были такие строчки: «С глубоким чувством читала я письмо Ваше, не скрою от Вас, даже плакала. Я была сильно тронута благородством души Вашей и теми чувствами, которые Вы до сих пор сохранили к покойному отцу моему. Примите мою искреннюю благодарность за оные и будьте уверены, что я вполне ценю их. Как отрадно мне будет видеть Вас лично и услышать от Вас об отце моем, которого я почти не знаю. Мы встретим Вас как самого близкого родного».
Их встреча состоялась осенью 1858 года в Кошелевке. Об этом радостном для обоих событии старый декабрист незадолго до своей кончины писал: «В бытность мою в Тульской губернии я навестил Настеньку, или, лучше сказать, Настасью Кондратьевну Пущину. Муж её, отставной кирасир, живёт в деревне, а зимой в Туле, где старшие три сына учатся в гимназии. Все семейство состоит из 9 человек. Она приняла меня как родственника, и мы вместе поплакали о Кондратии, которого она помнит и любит. Мать её несколько лет тому назад, как умерла… Встреча наша необыкновенно перенесла меня в прошедшее. О многом вспомнили…».
Вглядываясь в черты Анастасии Кондратьевны, старый декабрист нашёл в ней немало сходства с отцом: та же быстрота взгляда, та же неукротимая энергия.
Во время встречи встал вопрос об издании сочинений Рылеева. Имя поэта к тому времени в России было почти забыто, находилось под строгим цензурным запретом. Иван Иванович выразил горячее желание содействовать публикации сочинений Кондратия Фёдоровича, выходивших последний раз в роковом 1825 году, обещал привлечь к этому делу Е. И. Якушкина. Анастасия Кондратьевна была ему безмерно благодарна и перед отъездом передала ряд хранившихся у нее материалов, в том числе письмо Рылеева из крепости, его рукописи и портрет. После этого, чтобы ускорить издание, она лично обратилась за разрешением к министру просвещения, в ведении которого находилась светская цензура. Однако министерство осталось глухо к просьбе дочери опального поэта. В августе 1859 года Иван Иванович Пущин умер, и Анастасии Кондратьевне пришлось самостоятельно искать каналы для публикации произведений отца.
В конце 50-х – начале 60-х годов XIX века часть имевшихся в распоряжении Анастасии Кондратьевны материалов попадает за границу, где в это время создаётся вольная русская пресса, выходят издания с произведениями запрещённых в России авторов.
В 1861 году в Лондоне, в Вольной русской типографии А. И. Герцена и Н. П. Огарёва, с предисловием Огарёва вышел в свет сборник «Русская потаённая литература XIX столетия», в котором были опубликованы солдатские песни К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева-Марлинского. В 1862 году в шестой книге альманаха «Полярная Звезда» Герцен опубликовал переписку Рылеева и Пушкина.
Одним из зарубежных центров, где печаталась бесцензурная русская литература, наряду с Лондоном был Лейпциг, город образцовой европейской полиграфии. Выпуск запрещённых в России произведений здесь был налажен стараниями Варвары Семёновны Миклашевич (псевдоним – Юрий Приваловский) и немецкого издателя Вольфганга Гергарда. В частности, в 1858 году в издательстве Гергарда был выпущен небольшой сборник стихотворений лучших русских авторов, где наряду со стихами Пушкина и Лермонтова были опубликованы и стихи Рылеева.
В 1862 году также в лейпцигском издательстве Вольфганга Гергарда была выпущена в карманном формате и подарочном, с золотым обрезом исполнении книга «Стихотворения К. Ф. Рылеева с его жизнеописанием», включавшая 51 стихотворение поэта-декабриста, поэму «Войнаровский» и «Думы». Сборник открывается знаменитой рылеевской сатирой 1820 года «К временщику», сделавшей поэту имя в русской литературе. Он содержит в себе практически всё лучшее, что было создано поэтом за его короткую драматическую жизнь. Сборнику предпосланы довольно подробная биография Рылеева, написанная Павлом Фуксом (выяснить, кто это, мне, к сожалению, не удалось), и рассказ очевидца о казни декабристов.
Среди представленных в поэтическом сборнике Рылеева сочинений есть и дума «Дмитрий Донской», посвящённое Куликовской битве. Интересна она тем, что поэт вложил в уста московского князя призывы декабристского движения:
«Летим – и возвратим народу
Залог блаженства чуждых стран:
Святую праотцов свободу
И древние права граждан.
Туда! за Дон!.. настало время!
Надежда наша – бог и меч!
Сразим Монголов и, как бремя,
Ярмо Мамая сбросим с плеч!»
……………………………………………….
– К врагам! за Дон! вскричали войски,
За вольность, правду и закон! —
И, повторяя клик геройский,
За Князем ринулися в Дон.
Это издание – одна из жемчужин моей библиотеки. Его не было даже в уникальном книжном собрании Н. П. Смирнова-Соколь-ского. А приобретена книга самым заурядным образом, в 1980 году, в одном из букинистических магазинов Москвы!
Есть в моей библиотеке и менее редкое, но весьма примечательное издание – первый том «Полного собрания сочинений Кондратия Фёдоровича Рылеева», отпечатанный в 1906 году в московской типографии «Сокол». Этой книгой открывалась серия «Библиотека декабристов», издание которой стало возможным в результате временной отмены в дни революции 1905 – 1907 годов предварительной цензуры. «Декабристы, – говорилось в редакционном предисловии к книге, – оставили по себе богатое наследие, но благодаря тому, что оно разбросано в малодоступных уже теперь журналах, заграничных изданиях, частных рукописях и архивных документах, оно подчас мало известно читателю; поэтому прямою задачей момента является собрать весь этот материал воедино, представить его в возможно полном виде и сделать его доступным всем и каждому».
Пояснениями к сочинениям Рылеева служили отрывок из статьи А. И. Герцена «Заговор 1825 года», воспоминания о Рылееве декабриста Н. А. Бестужева, статья редактора – издателя «Библиотеки декабристов» Г. Балицкого «Поэзия гражданской борьбы (К. Ф. Рылеев)».
К сожалению, из прекрасно задуманной серии издателю удалось выпустить лишь несколько книг, в том числе первый том Рылеева. С ослаблением революции цензура вновь была восстановлена во всех своих сомнительных правах.
Насколько причастна была Анастасия Кондратьевна Рылеева к лейпцигскому изданию стихотворений ее отца – судить не берусь. Однако без неё дело явно не обошлось. В статье П. Фукса, например, приводится ряд подробностей из жизни поэта, о которых могли знать лишь его родные и близкие, содержится текст предсмертного письма Рылеева жене.
В 60-е годы позапрошлого века Анастасия Кондратьевна познакомилась с известным ревнителем российской старины, замечательным библиографом и литературоведом, издателем «Русского архива» Петром Александровичем Ефремовым. Дочь декабриста помогала ему в сборе документальных материалов об участниках восстания на Сенатской площади, розысках их литературного наследия. Ею были подготовлены и переданы для публикации многие материалы рылеевского архива.
Анастасия Кондратьевна и в эти годы неоднократно обращалась с прошением к властям об издании поэтических сочинений К. Ф. Рылеева. Однако власти даже спустя многие десятилетия опасались произносить имя поэта-декабриста. Всякий раз на её просьбы они отвечали отказом. Известны такие случаи. В 1871 году цензурный комитет приостановил издание сборника П. И. Бартенева «19 век» только за то, что в нём содержались письма Рылеева и воспоминания о нём Е. П. Оболенского и Н. А. Бестужева. В том же году подготовленное к печати стихотворение Рылеева было изъято из октябрьской книжки журнала «Русская старина».
Уже отчаявшись издать произведения Рылеева в России, Анастасия Кондратьевна по совету П. А. Ефремова обращается к троюродному брату отца – флигель-адъютанту А. М. Рылееву, коменданту императорской главной квартиры, который пользовался особым доверием при дворе. А. М. Рылеев выступает ходатаем за казнённого брата перед Александром II и добивается всемилостивейшего разрешения на издание его сочинений.
В 1872 году «Сочинения и переписка Кондратия Федоровича Рылеева» выходят в свет. На титульном листе книги значилось «Издание его дочери». Книга была беспощадно урезана цензурой, не содержала портрета автора, а также многих его стихотворений. Была урезана и переписка поэта-декабриста. Но и в таком виде книга прошла немало мытарств, прежде чем прийти к читателю. Ей не давали дороги, подвергали аресту, пытались уничтожить уже отпечатанный двухтысячный тираж. Когда же книга появилась, наконец, на прилавках книжных магазинов, о ней заговорили как о важном событии в культурной жизни страны.
В марте 1878 года с Анастасией Кондратьевной Рылеевой-Пущиной познакомился Лев Николаевич Толстой, собиравший в то время материалы к задуманному роману «Декабристы». Их встреча произошла в Туле, в доме Евгении Ивановны Пущиной, хорошо знавшей Льва Николаевича Толстого. В одном из писем жене Толстой писал, что во время встречи с дочерью декабриста «узнал много интересного».
После смерти Анастасии Кондратьевны в мае 1890 года архив и библиотека поэта-декабриста перешли к её детям. У Пущиных было трое сыновей и четыре дочери. По всей видимости, каждый из внуков Рылеева хотел иметь у себя в семье память о знаменитом деде. Так архив и библиотека поэта оказались разрозненными. От потомков Рылеева в разные годы архивные документы и книги поступили в разные государственные музеи и хранилища. Кто-то из них сделал дар Тульской областной библиотеке. Произошло это, по всей вероятности, в первые годы Советской власти, когда библиотека только создавалась. Приходится лишь сожалеть, что имя человека, передавшего рылеевские книги в дар Туле, осталось неизвестным.
На этом рассказ о тульской коллекции книг из библиотеки поэта-декабриста Кондратия Фёдоровича Рылеева и его замечательной дочери можно было бы завершить. Но неожиданно появилось продолжение. В один из дней 1976 года, вскоре после публикации в газете «Советская культура» моей статьи о рылеевских книгах, раздался телефонный звонок. Звонила Мария Борисовна Михановская:
– Не могли бы Вы приехать сейчас в библиотеку?
– Могу. А в чём, собственно, дело?
– К нам гость из Москвы, Николай Николаевич Органов. Эта фамилия, наверное, Вам ничего не говорит. Но он праправнук Кондратия Фёдоровича Рылеева и хотел бы с Вами познакомиться…
В небольшой комнатке, которую занимал тогда справочно-библиографический отдел библиотеки, навстречу мне из-за стола вышел высокий седой мужчина с доброй улыбкой и умными проницательными глазами. Мой взгляд, очевидно, дольше, чем следовало бы, остановился на его лице.
Николай Николаевич заметил это.
– Что? Ищете сходство с Рылеевым? – пошутил он. – Не ищите, я на него совсем не похож. Ведь все родство с Кондратием Фёдоровичем у меня по женской линии, да потом столько поколений сменилось…
Несколько часов кряду разговаривали мы с ним о Рылееве, его друзьях-декабристах, о книгах из библиотеки поэта. Познакомиться с тульской коллекцией рылеевских книг Николай Николаевич приехал не ради любопытства, а по просьбе Государственного исторического музея.
– Культ Рылеева в нашей семье, – рассказывал Николай Николаевич, – существовал всегда, сколько я помню. Бережно хранились и передавались из поколения в поколение семейные реликвии, некогда принадлежавшие Кондратию Фёдоровичу. Хранились и книги из библиотеки поэта, документы. В разное время всё это передавалось в музеи, архивы. К сожалению, сам я стал всерьёз интересоваться своим знаменитым предком сравнительно недавно, когда ушёл на пенсию. До этого как-то не удавалось: то война, то работа.
Когда велась подготовка к 150-летию восстания на Сенатской площади, Николая Николаевича, как он сам выразился, «разыскали» вездесущие музейщики, привлекли к сбору документов и материалов о декабристах. К поручению сотрудников исторического музея Николай Николаевич отнесся с ответственностью. Незаметно и сам увлёкся интересным и благородным делом, отдав ему немало сил и времени.
Прощаясь, Николай Николаевич подарил мне на память альбом, выпущенный Государственным историческим музеем к 150-летию восстания на Сенатской площади, фотокопию хранившегося в семье редкого портрета Рылеева, а также набросанную им на листке из школьной тетради родословную семьи Рылеевых-Пущиных.
Книгами из библиотеки К. Ф. Рылеева одно время интересовался известный советский искусствовед, лауреат Государственной премии профессор И. С. Зильберштейн. В 1986 году в 14-м номере журнала «Огонек» он опубликовал статью на эту тему, в которой рассказал о своей работе над томами «Литературного наследства», посвящёнными декабристам-литераторам, о публикации статьи А. Г. Цейтлина «О библиотеке Рылеева», о своих поисках рылеевских книг в Париже. Благодаря Зильберштейну здесь отыскались два издания, принадлежавшие поэту-декабристу: трагедия Вольтера «Меропа», «переложенная в стихи из русской прозы Василием Майковым», изданная в 1775 году в Москве при государственной Военной коллегии, и первая часть издававшегося в 1815 году в Петербурге журнала Андрея Кропотова «Демокрит». О тульской коллекции книг из библиотеки Рылеева Зильберштейн, к сожалению, в своей статье почему-то не упомянул, хотя к этому времени о ней уже было известно научной общественности из моих публикаций в центральных и местных изданиях.
Познание России
Воспитанник Тульской духовной семинарии Иван Сахаров считался отроком до наук прилежным, только очень уж дотошным. Другим, бывало, что ни скажут семинарские преподаватели, какую книгу ни посоветуют, оно и достаточно. А этого всё тянуло к подробностям.
Семинарское начальство поглядывало на него искоса: «Ишь ты, какой выискался! Больше нашего знать желает. Не к добру все это. Молод ещё, зелен…».
Обидно было юноше слышать несправедливые упреки. Но ничего не поделаешь, никому не пожалуешься, не расскажешь о своих горечах. У других семинаристов отцы в разных чинах и званиях ходили, а у него отец умер. Старушка мать сына не понимала, смиренным быть советовала, не идти поперёк воли начальства.
Но Иван был настойчив. Видимо, шло это у него от праотцов, вольных русских землепашцев. Каждый свободный час отдавал пытливый юноша книгам. В наследство от отца, бедного тульского священника, досталась ему небольшая библиотека. Среди её книг были сочинения по истории и естествознанию, изящной словесности. Они-то и стали для Ивана Сахарова первой тропинкой к «вратам учёности».
Особенно привлекала семинариста русская история, ее захватывающие воображение былинные образы, героические страницы борьбы русского народа против иноземных завоевателей, богатая материальная и духовная культура Древней Руси. С усердием и старанием изучал юный семинарист исторические сочинения Н.М.Карамзина, бывшие в то время единственным полным сочинением о прошлом России. «Долго и много читал я Карамзина, – вспоминал впоследствии Сахаров. – Здесь-то узнал я родину и научился любить русскую землю и уважать русских людей».
Сочинения маститого историка пробудили в юноше горячее желание познать историю родного края. «Среди чтения истории Карамзина являлась всегда одна мысль: что же такое Тула и как жили наши отцы,» – признавался Сахаров много лет спустя.
Первым шагом на пути познания родного края стали выписки из карамзинских сочинений всего того, что касалось событий, связанных с Тулой. Однако вскоре этого оказалось недостаточно.
Как-то, совсем случайно, находясь в ризнице тульской Казанской церкви, где обычно во время богослужений, выражаясь языком современным, «проходили практику» семинаристы, Сахаров среди прочих старых бумаг обнаружил небольшой древний свиток. Взволнованно забилось сердце. Ведь это и была сама история!
Свиток оказался копией «Грамоты государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича и царевны Софьи Алексеевны на Тулу воеводе князю Шаховскому», датированной апрелем 1688 года. Документ содержал интересные подробности тульской жизни конца XVII столетия. Он и навёл Сахарова на мысль о том, что изучать историю родного края надо не только по трудам историков, но и по сохранившимся историческим документам и памятникам.
С жаром юного сердца, с энтузиазмом первооткрывателя Сахаров начинает выявлять, изучать и систематизировать сохранившиеся в Туле древности. Пытливому юноше с большим трудом, но все же удаётся проникнуть в архивы Тульского городского магистрата и Императорского оружейного завода. Здесь под слоями вековой пыли он находит немало интересных и ценных исторических свидетельств.