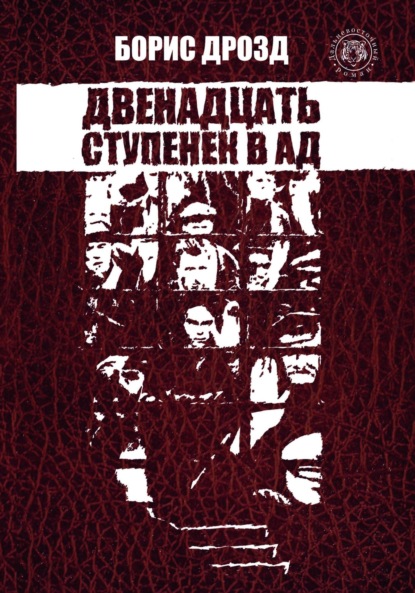По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Двенадцать ступенек в ад
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И он сразу же обхватил стакан обеими ладонями и так держал их, согревая озябшие руки и от этого, должно быть, согревался весь его организм.
Грустное настроение Миронова имело своим основанием несколько причин. Он был грустен оттого, что отлично понимал то, что стал игрушкой в чужих руках, в руках того, кто теперь был Властелином над всеми. С его-то умом и проницательностью он понимал, что бывает с игрушками, которые становятся ненужными или делаются свидетелями чьих-то детских забав. Быть игрушкой в руках того, которого он, Миронов и люди его круга и уровня, (многие из них были из старых партийцев и революционеров, дела против которых теперь «стряпал Миронов) и прежде и теперь не считали даже достойным себя, считали уровнем куда как ниже себя и в расчет его не брали, а вот поди ж ты…Как же так вышло? Почему? Спроси – никто не ответит. Поистине, пути господние неисповедимы! А рядом с Властелином, его ближайший круг – сплошь ничтожества, серость, безликость, скудоумие. Подчиняться им – это ниже твоего достоинства. А Ему не нужны умные, а нужны послушные. Эти вечно будут при нем целехонькие, а умных он только использует, а потом выбросит вон, как ненужные игрушки.
Миронов отличался исключительным самомнением и чувством превосходства над окружающими.
Ему было особенно больно и грустно, что Сталин выкашивает старые кадры и с этим ничего поделать нельзя. Те старые кадры, которые считали Сталина куда как ниже себя, это были одного с ним, Мироновым, уровня. А главное, это были свои. А эти, игрушкой которых он стал, были люди чужие, чуждые ему. Сколько же человеческого дерьма из самых застойных и смрадных российских углов вынесла на поверхность революция! И теперь это дерьмо – наверху, во власти и каким-то образом Сталин сумел сплотить их вокруг себя. А сколько потом уже в последнее десятилетие повылезло «дерьма»! Сила Сталина в многочисленности и сплоченности вокруг него этого «дерьма». И они – непобедимы, вот в чем было его главное разочарование в жизни, сделавшее непреходящую грусть содержанием последнего времени жизни комиссара госбезопасности второго ранга. Хотя лично ему грех было жаловаться, просто теперь служить делу, которого уже не любишь, подчиняться решениям этого сплоченного «дерьма»? О, это невыносимо!
Как человек умный и проницательный, он знал, чем все это кончится, и тем сильнее грызла его неудовлетворенность жизнью, грусть-тоска, что отражалось на его утонченном, подвижном, артистическом лице, подверженном многочисленным и разнообразным гримасам, говорившем о том, что в нем погибло незаурядное актерское дарование.
Он был грустен еще и оттого, что не только дело, на которое он был послан Ежовым и Сталиным, но и общее настоящее положение тяготило его. Вероятно, были они с Семеном Кессельманом одной еврейской местечковой породы, одного психического склада, увлеченных «романтикой революции» и возможностью участвовать в главном деле эпохи, добившихся высоких постов, но вынужденных стать палачами и теперь тяготившихся этим делом из-за невозможности выпрыгнуть из той колеи, в которой они увязли. Эта «колея» давала почет, уважение, награды и солидный достаток, который, как ни хнычь на тяжесть и рутину уже опостылевшей службы, жаль было потерять. Только Миронов был умнее и талантливее Кессельмана. Дерибасу было известно, что Миронов мечтал о том, что Сталин со временем, когда истощится вся «контрреволюция» переведет его на контрразведывательную работу за рубеж, большие у него были аналитические способности, но «контрреволюция» никак не желала истощаться. Стало быть, хотел выйти и откреститься от участия в дальнейших разоблачениях старых партийцев и большевиков, отойти от расстрельных дел. Теперь многие…очень многие хотели бы откреститься от того дела, в которое вошли в годы юности, увлеченные «романтикой революции», отойти в сторону от казней и расстрелов, от участия в фабрикации дел на тех, кого называли «ленинской гвардией». Думали Мироновы-Кессельманы и иже с ними о том, что вот сейчас, не сегодня-завтра поработают в ЧК-ОГПУ, подавят всю контрреволюцию и «соскочат с поезда», займутся другим, любимым делом, что импонировало бы их творческой душе. Но хватка у органов слишком крепкая, чтобы можно было так просто «соскочить с поезда». Да уже и вкусили сладкого пирога – власти, положения в обществе, пайка, достатка, возможности безнаказанно пользоваться служебным положением в личных целях, – не так широко, как Балицкий и Ягода, выросшие в новых советских вельмож, дворян-помещиков, поменьше, конечно, но чтобы стоять куда как выше остальных смертных…
…В кабинет, приоткрыв дверь, заглянула жена Дерибаса Елена и, извинившись за вторжение, проговорила:
– Я только на секунду… – И, войдя, передала мужу пакетик с лекарствами, добавила: – Там все написано, как принимать. Вот это сейчас же выпей, сразу две таблетки, а вот эти прочтешь на бумажке, как принимать.
И вышла, сопровождаемая завистливым взглядом Миронова.
– Вот, мучаюсь с мигренью, – произнес Дерибас, поясняя вторжение жены. – Головные боли замучили, хоть плачь.
«Старый уродец, невообразимый карлик, из-за стола едва видно, а жену отхватил – на зависть! Какое милое, нежное, заботливое создание! Что же их связывает? О, люди, о, женщины! А я еще не старый, красивый, бабы сами липнут, должностью не обижен, а нет мне счастья. Нет и нет! Один лишь тяжкий крест несу! О, пути господни неисповедимы!», – грустно думалось ему.
Миронов был грустен еще и оттого, что был несчастлив в семейной жизни, и про него говорили в чекистских кругах о том, что он был безнадежно влюблен в свою хорошенькую и ветреную жену Наденьку, которая изменяла ему направо и налево, крутила романы и, что поразительно, чуть ли не докладывала ему о своих романах, увлечениях, не стесняясь и не скрывая этого. Чудеса! И он, обладавший громадным влиянием в чекистских и хозяйственных делах, считается на одном из первых мест у Сталина по важным делам, но ничего не мог поделать с собственной женой. Может быть, у них с женой был какой-то уговор? Живем-де для вида вместе, раз уж ты влюблен в меня и тебе этого так хочется, а любим порознь, того, кого нам захочется?
– Заботливая у вас жена, Терентий Дмитриевич, – произнес Миронов со своей грустной улыбкой. – И неожиданно продолжил как-то по-дружески, участливо: – Вот вы женились недавно, жена моложе вас почти на тридцать лет. Скажите, вы счастливы?
Дерибас опешил и какое-то время молчал, озадаченный таким неожиданным, никак не относящимся к делам вопросом, вызывающим на откровенность.
– Счастье – вещь относительная, Лев Григорьевич, – уклончиво ответил Дерибас, усмехаясь в усы и раскладывая таблетки отдельными кучками, а часть таблеток заталкивая в спичечный коробок своими короткими желтыми от табака пальцами. – У меня и дома и в жизни теперь порядок, покой, ребенок вот родился. А счастье… О нем ли мечтать в наши годы? – Он хитровато улыбнулся. – Да вот же и сказано про это: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Воля в смысле свобода, надо понимать.
– О! – удивленно воскликнул Миронов и в его грустных глазах зажглись искорки интереса к этому карлику. Он даже оживился. – Вы увлекаетесь Пушкиным?
– Люблю литературу, писателей, раньше, бывало, почитывал кое-что, с Горьким дружил, с Бабелем, с Маяковским. А теперь вот тут служу, здесь знаменитостей нет. И знаете, некогда. Совсем некогда! То стройки, то лагеря инспектируй, то заставы, мотаюсь по краю без продыху, да и здесь по службе дел хватает, сами знаете, Лев Григорьевич. Леночка моя увлекается Пушкиным, Лермонтовым и другими классиками и меня потихоньку просвещает.
– Вы, если не ошибаюсь, не в официальном браке?
– Все некогда, Лев Григорьевич, да и успеется еще, – шутливо отвечал Дерибас.
– Жена, если не ошибаюсь, служила с вами?
– Да, в секретариате. Сейчас в декрете, нашему, мальчику только третий месяц пошел…
– Это хорошо, – как-то потеплел он голосом. И заговорил с ним, как с равным: – Хорошо, когда любимая жена рядом, одних с вами мыслей. В жизни это большая редкость. Очень большая! – прибавил он и вздохнул при этом. – Но вам известно о том, что Пушкин сам же себе возразил. И он процитировал:
– Я думал воля и покой,
Замена счастью, Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!
– Молодость, молодость, ничего не скажешь! – произнес Дерибас, привычно усмехаясь в усы. – Хотел счастья в жизни, но отрекся от него, вроде как дал обет, но вот поди ж ты как вышло. А помните еще у Боратынского? И он процитировал:
Не властны мы в своей судьбе,
И в молодые наши леты
Даем поспешные обеты
Смешные, может быть всевидящей судьбе.
– Вы правы, правы, Терентий Дмитриевич, ошибки молодости не исправить. Не исправить, не исправить! – заключил Миронов, думая, вероятно, именно о том, что по жизни уже ничего не исправить.
Заговорили о судьбе, о том, что от судьбы не уйдешь, и в этом мнения их совпали. Как ни крути, ни хитри, а судьбу не обманешь. «Пути господни неисповедимы» (это выражение очень понравилось Дерибасу), где главным управителем жизни человека являлся не Бог, а Судьба – вот подлинный властелин человека, хозяин его жизни.
– Теперь о деле, Терентий Дмитриевич, – произнес Миронов, покончив с чаем и снова закуривая. – Арнольдов мне докладывал, что вы не даете санкции на арест людей по нашему списку.
Дерибас тоже закурил свою «Северную Пальмиру», помолчал какое-то время, напустил дыму, сосредотачиваясь на крутой деловой разговор после обычной «светской» болтовни.
– Не даю санкции и так просто не отдам на съедение ни одного человека. Ни одного партийного, советского и хозяйственного работника.
– Почему же на съедение?
– Если человека арестуют, из тюрьмы ему уже не выбраться, вы это знаете не хуже меня. В тюрьме невиновных уже не бывает, вину ему найдут и определят. А в вашем списке самые ценные работники края, его золотой фонд. А с них начнут выбивать показания, и пойдет писать губерния!
– А если они шпионы, контрреволюционеры, троцкисты, вредители?
– Я уже говорил Арнольдову, Лев Григорьевич: дайте факты, покажите весомые аргументы в необходимости арестов, а не одни лишь выбитые признательные показания и оговоры людей под нажимом следствия. Положим, дам я санкцию, но Чернин ее не утвердит. Прокурор у нас человек принципиальный, твердого характера. Для него повод для ареста должен быть подтвержден доказуемыми фактами и компрометирующими материалами, – отвечал на это Дерибас.
– Напрасно вы противитесь, Терентий Дмитриевич, – с сожалением произнес Миронов, выпуская тоненькую струйку дыма. – Напрасно, напрасно…Мне бы не хотелось докладывать в Москву о вашем противодействии, это повредит вам по службе. Будьте благоразумны, не идите поперек наметившейся тенденции. В Кремле этого не любят и не поймут. И Чернину это объясните.
– Я вам пример приведу, Лев Григорьевич, как работает команда Арнольдова. Арестован тут нами военный инженер строительного отдела Кащеев за халатность, разгильдяйство и злоупотребления. Обычное уголовное дело, но Арнольдов переквалифицирует это дело как политическое, как широкомасштабный заговор в военно-строительном отделе, Путну сюда приплели зачем-то, шпионаж шьют инженеру в чистом виде под расстрельные пункты пятьдесят восьмой статьи.
– Инженер Кащеев дал признательные показания на участие в заговоре и во вредительстве, кажется, около пятидесяти человек. И Блюхер согласился, подписал, и военный прокурор утвердил, – ответил на это Миронов.
– А не имею касательства к делам военнослужащих, но на месте Блюхера я бы сначала перепроверил, каким образом выбиты показания из инженера, которого изуродовали следователи, – ответил Дерибас. – Фактов нет, Лев Григорьевич, доказательств, улик. Одни лишь признательные показания уже арестованных не могут быть основанием для арестов других людей, и тем более нельзя на них строить обвинительные заключения, и Чернин бы в отличие от военного прокурора с этими бы арестами не согласился и опротестовал бы их.
– Не понимаю я вас, Терентий Дмитриевич… Вы старый, опытный чекист, а зачем-то препятствуете арестам очевидных шпионов, вредителей, людей с троцкистскими взглядами. Разве мы делаем не одно общее дело по очищению страны от врагов народа?
– Смотря, как его делать, Лев Григорьевич! Если дело пойдет с таким размахом, как бы нам с вами не оказаться во врагах народа. – проговорил Дерибас и поднялся, показывая этим, что разговор окончен.
– Что ж, очень жаль! – ответил Миронов и тоже поднялся. – Очень жаль, что мы не поняли друг друга!
IV К НАМ ЕДЕТ «ПАН БАЛИЦКИЙ»
О том, что комиссар госбезопасности первого ранга и начальник УНКВД по Дальневосточному краю Терентий Дерибас препятствует раскручивать аресты в Дальневосточном крае, Миронов докладывал Ежову, а тот уже докладывал Сталину. Миронов в шифротелеграмме за №61240 сообщал Ежову о четырех группах арестованных (18 из них из них инженерно-технический состав строительно-квартирного отдела, которых группа Арнольдова оформляла в «заговор в военно-строительном отделе»). Параллельно московская группа вела разработку «военно-троцкистской организации в ОКДВА». Эти вероятные заговоры разрабатывались московскими следователями по типу западных районов страны, где уже были раскрыты заговоры и начались аресты его участников.
Тем временем первый секретарь Далькрайкома Варейкис слал Ежову (а тот докладывал Сталину) доносы: «Дальневосточное УНКВД, возглавляемое Дерибасом и его заместителем Западным, с большой недооценкой относятся к вражескому троцкистскому подполью. Его руководство поражено политической слепотой».
Эти доносы и шифротелеграммы Варейкиса о препятствии Дерибаса работе московских следователей и сообщения Миронова о раскрытых заговорах и его ходатайство перед Политбюро о том, что Дерибас препятствует работе бригаде московских следователей, завершились тем, что восьмого мая 1937 года Дерибас получил шифрограмму из Москвы: