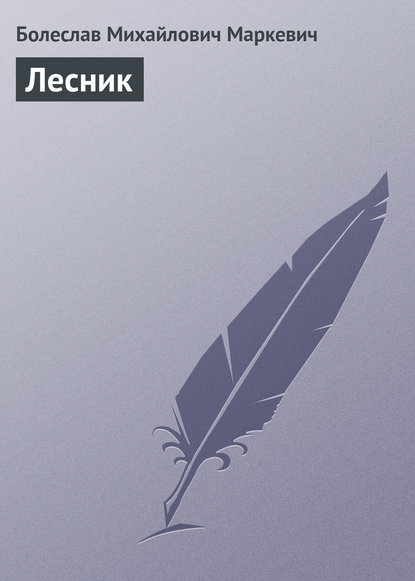По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лесник
Год написания книги
1880
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Иван Николаич! вырвалось у неё невольно из груди скорбным упреком.
Он обернулся на нее, понял… Воспаленные зрачки его глядели на нее не то дико, не то бессознательно. Икота от времени до времени прорывалась сквозь его спекшиеся губы, подергивала его лицевые мускулы.
– Ну, да, вот… как видите… Полюбоваться можно! пролепетал он с неестественным харканьем и поднялся с места.
– Послушайте, Иван Николаич, все это вздор, поспешила она заговорить, – я приехала увезти вас отсюда.
Он молча, не глядя на нее, закачал отрицательно головой.
– Вы не хотите? воскликнула она; – послушайте, ведь это абсурд!.. Я не понимаю, что с вами делается… Мне сейчас сказал ваш Барабаш, что вы и от места своего отказываться хотите?..
– Верно! произнес он еле слышно, но с поразившею ее твердостью интонации.
Ее начинала разбирать досада:
– Вы, должно быть, двести тысяч выиграли, пылко возразила она, – потому что жить, ведь, чем-нибудь надо…
– Зачем? глухо, с растерянной улыбкой проговорил он на это.
– Как зачем? повторила она озадаченно, – ведь потому что ваш Валентин Алексеич из-за своего упрямства…
Она оборвала разом, испуганная выражением его лица. Всего его будто свела бесконечная внутренняя мука. Он качнулся на ногах и каким-то судорожным движением протянул руку с направленным на нее указательным пальцем:
– Из-за вашего слова!.. Голос его хрипел и прерывался: – зачем вы ему это слово сказали?
– Какое слово?.. Она вся вспыхнула: – это, за что вы и тогда на меня рассердились, да? Что я ему сказала про барские капризы?..
– А! Помните! надрывающим смехом рассмеялся вдруг капитан; – чем упрекнуть вздумали!.. Барство!.. Он человек был, настоящий, Пинна Афанасьевна!.. Из мертвых, почитай, воскресил меня этот человек… А вы ему сказали что! И эти все слова ваши, сами знаете, кимвал один… Только он не мог после этого ехать с вами, и… и где он теперь, где, Пинна Афан…
Безумное, потрясающее рыдание вырвалось из этой широкой груди и откликнулось каким-то нечеловеческим отзвуком в глубине лесной чащи. Девушка вздрогнула. Эта истинная, эта святая человеческая скорбь захватывала ее за лучшие стороны её души. Крупные слезы выступили мгновенно из глаз её и покатились по щекам.
– Иван Николаич, милый, заговорила она прерывающимся голосом, – это ужасно, ужасно! – Но вы сами понимаете, могла-ли я думать, что эти глупые слова, в самом деле, будут иметь такие последствия… Да и точно-ли от этих слов? Ведь он и раньше никак не соглашался вернуться в Хомяки… Но все равно, я виновата, я признаюсь, что вообще говорю, по привычке, многое… ненужное; простите мне!.. И прошу вас, милый, перестаньте так убиваться! На вас, просто, смотреть больно!..
Он тем временем как бы совладал с собою и, отерев лицо свое рукавом, молча глядел на нее отрезвевшими и безнадежными глазами:
– Ведь как вы ни любили этого человека, продолжала она, – он был прекрасный: достойный, я знаю, я понимаю вас, – но сами вы знаете, каждая человеческая жизнь есть самоцель…
– «Самоцель»! с усилием, медленно повторил Переслегин: – кимвал, Пинна Афанасьевна!..
Она покраснела слегка, но не рассердилась – и улыбнулась даже, несколько через силу:
– Вам и это мое слово не нравится? Извольте, я беру его назад. Но сущность остается все-таки та же. Неужели потому что его нет более, для вас уже ничего не осталось в жизни, ни радостей, ни привязанности?..
Он усмехнулся вдруг горькою, горькою усмешкой:
– Должно быть, не надо мне этого ничего… и не бывать!.. Жена была… Он… Кому я только всю душу… прахом все, прахом. Не надо!..
– А я, Иван Николаич, вы меня забыли? вскрикнула в неудержимом порыве девушка, – вы говорили мне сто раз, что любите меня, умоляли быть вашей женою… Ну, хорошо, я согласна, я за вас пойду… когда хотите… Только придите в себя, уедемте отсюда скорей!..
Он поднял еще раз на нее глаза, полные тоски и как бы испуга:
– Я, действительно, Пинна Афанасьевна, за… за счастье думал, потому… достойным себя почитал… А теперь… Сами вы видели!..
– Это ничего не значит! торопливо возразила она; – с кем это не бывало!.. Поедемте сейчас в Темный Кут, я вас довезу. Ложитесь спать, а завтра забудем оба и думать об этом…
Капитан уронил голову и прошептал дрожащим голосом:
– Вы, может быть, действительно, Пинна Афанасьевна, по молодости… и по доброте вашей… А мне не забыть-с… не забыть-с никогда!..
Она вся изменилась в лице. Слова его имели для неё совершенно определенный смысл: он уже не ожидал от неё счастья, он не в состоянии будет простить ей никогда то, что она сказала покойному Коверзневу и что «в возбужденной голове своей» почитал он причиною его трагического конца… Ей стало и больно, и обидно до слез…
– Послушайте, Иван Николаич, молвила она, – вы расстроены в настоящее время, и я поэтому не хочу признавать то, что вы сейчас сказали, за ваше последнее слово. Если вы не согласны теперь ехать со мной, я вас, конечно, увезти силой не могу; но я уверена, что вам самим сделается стыдно, и что вы завтра приедете просить у меня прощения за то, что так огорчили меня сегодня… И я вам прощу, потому что я, может быть, часто и вздор говорю, но в сущности, очень добрая, как вы и сами сейчас сказали, промолвила она, скрывая душевное волнение под этой напускною шутливостью тона.
Он молчал и как бы насмешливо, почудилось ей, покачивал головою. Ее взорвало это «пренебрежение», которого ни в каком случае не могла она ожидать от него.
– Послушайте, капитан, пылко, с загоревшимся взглядом воскликнула она, – я вас буду ожидать завтра целый день в Мурашках. Если вы не приедете, я после завтра уеду в Петербург… Вы знаете, что я только из-за вас жила в здешних местах.
Он, будто движимый какою-то пружиной, вскинул на нее вдруг с какою-то жадностью свои большие, круглые глаза. Выражение мучительной борьбы сказалось на мгновение в его чертах… Веки его заморгали, дрогнули судорожно губы… Но все это так же мгновенно исчезло. Он взглянул в сторону, махнул рукой…
– Что же делать, Пинна Афанасьевна, проговорил он тихо, тихо, как бы про себя, – дай вам Бог!..
Чувство оскорбления взяло у неё верх надо всякими иными соображениями: она хлестнула свою лошадь обеими возжами и, не взглянув на него, покатила назад в Хомяки.
Но не проехала она и двух верст, как вдруг ей неожиданно сделалось страшно. «Неужели я его более не увижу, и он вздумал что-нибудь сделать над собою?» так и гвоздила ей в голову эта внезапная, только теперь возникшая в ней мысль…
Тележка подпрыгивала, тени и яркия пятна солнца мелькали в её глазах. Как-то гулко отдавался стук колес в глухой чаще леса; часто густые ветви, наклоняясь, хлестали по дуге, обдавая свежими каплями. Она ничего кругом не замечала, – ей казалось, что теперь, сейчас должно случиться что-то важное, что-то такое, что должно было изменить всю её жизнь… Ехала она, ужасно волнуясь, негодуя и усиленно мигая, чтобы не дать хлынуть слезам, которые, она чувствовала, так и подступали под её веки. Лошадка её, точно чувствуя, в свою очередь, расстроенное состояние своей барышни, самым усердным образом, не жалея ног, мчалась по рытвинам и колеям.
XII
Не доезжая Хомяков, Пинна Афанасьевна увидела вдруг прямо перед собою на дороге такую-же быструю лошадку, запряженную в беговые дрожки, катившие ей навстречу. Она прищурилась, склонив на бок голову, и узнала через миг, в сидевшем верхом на этих дрожках, конторщика Спиридона Ивановича, и в коне его – коренника, из хорошо известной ей тройки вяток Софрона Артемьича Барабаша.
Он тоже узнал ее издалека и, сорвав картуз с головы, замахал ей, неистово кивая притом головою и махая локтями, словно откормленный гусь, намеревающийся лететь.
– «Что это за телеграфические знаки?» спрашивала она себя в изумлении.
Еще минута – до неё донесся его хриплый от спеха и волнения голос:
– Нашлись… Живы! живы, Пинна Афанасьевна!
– Что вы говорите? Кто? растерянная залепетала она, судорожно задерживая возжи.
Он докатил до неё, остановился:
– Они-с, барин, Валентин Алексеич… Чудом-с, просто чудом… Живы!..
– Да что вы это!.. В самом деле? Бы его видели?
– Не видал, в городе они… Софрон Артемьич сейчас к ним на почтовых поскакали, а мне приказали немедля Ивана Николаича отыскать, передать, значит, ему…