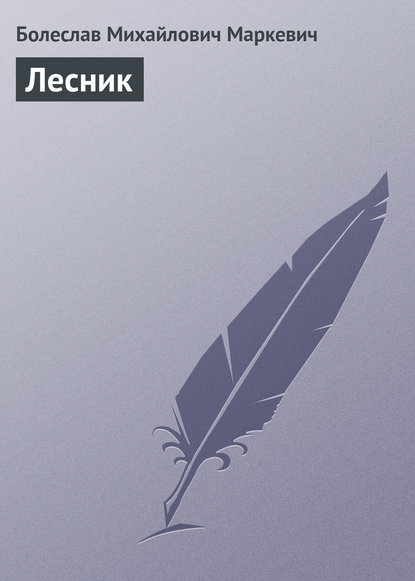По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лесник
Год написания книги
1880
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не могу в сей момент ответить вам, сударыня, с достаточною фундаментальностью, ибо личность, которым вы интересуетесь, был здесь, точно перед полуднем, но опосля того не видали, – так сказать, улетучился.
Она насмешливо прищурилась на него:
– Как это вы сказали: «интересуетесь?» Предваряю вас, что пренебрегаю этим намеком. Я держусь простых человеческих отношений и не допускаю никакой буржуазной сентиментальности. Я ждала сегодня капитана в Мурашках, а как он не приехал по обещанию, то я пожелала узнать о нем… что он очень расстроен? спросила она уже другим, более теплым и сочувственным тоном.
Софрон Артемьич вздохнул.
– Сами понимаете, Пинна Афанасьевна, какой для всех нас капут представляет такое, можно сказать, ненатуральное и совершенно даже невменяемое событие, которого вовсе и предвидеть невозможно никому.
– Ужасно, ужасно! воскликнула она, вздрогнув невольно; – гроза эта просто в Библию заставила меня верить: я поняла легенду о потопе… В этой избе у лесника я провела ужасные часы… Иван Николаич уехал тут-же, оставил меня там. Это по буржуазному кодексу общежития и не совсем правильно. Но я не претендовала на него за это, находя его поступок вполне гуманным…
– И такую революцию произвело это на него, можно сказать, заговорил шепотом Барабаш, – что он, ни с чем не сообразно даже, как объявил сегодня нам с Спиридон Иванычем, вознамерился должность свою покинуть.
Пинна Артемьевна так и вскинулась:
– Как кинуть! Да чем же он жить будет?
– Это вы, то есть, именно в точку попали, мадмуазель, – чем жить-с, потому буар-манже, это первое-с, усмехнулся Софрон Артемьич.
– Ну, это мы еще увидим, как он кинет! воскликнула она высокомерно. – Да где он теперь, не знаете вы разве? – беспременно в Хомяках, Пинна Афанасьевна, должны находиться в настоящую минуту, сказал конторщик Спиридон Иваныч, со свойственным ему стыдливым и отчасти таинственным видом, – они даже на лошади лесника тамошнего сюда приезжали…
Девушка кивнула ему, круто дернула возжею одной рукой, другою хлестнула по спине своего пегашку, и нетычанка её, описав широкий круг на дворе, запрыгала по дороге в Хомяки, гулко расплескивая зеленоватую воду не просохших еще после грязи луж.
Она была не на шутку раздосадована и взволнована. Прежде всего, «как смел он, не сказавши ей ни слова, заявлять о таком абсурде, как это намерение отказаться от своей должности?» Само собою, слова одни, потому что она «ему никогда не позволит»… Она давно успела привыкнут держать капитана, по отношению к себе, на положении полного крепостничества; давно уже воля её была для него священнейшим законом. А затем она беспокоилась о нем… Любила-ли она его? Она никогда не была в состоянии ответить себе на это серьезно, как не в состоянии была никогда дать положительный ответ на просьбы его выйти за него замуж. «Посмотрим, кто знает, заслужите!» говорила она с громким смехом на его признания, а когда он приходил в слишком большое уныние от её «жестокости», подставляла ему под губы свои пухлые ладони, «чтоб ему терпеть было легче», и опять принималась хохотать беззаботно и беспощадно…
Но она «привыкла к нему», к его обожанию, к тому, чем обязана она была ему. Он был для неё источник всякой благостыни, нежданно пролившейся на нее по приезде её из Петербурга, где жила она, слушая какие-то курсы, на 15 рублей в месяц. У вчерашней неряшливой «студентки» были теперь и красивые обои на стенах «келейки», отведенной ей теткою в Мурашках, и мягкая мебель, и ковер перед диваном, и розаны на столах, и журналы, и свой «экипаж», и какие-то фетры из Лондона и американские непромокаемые сапоги, чтобы ходить с ружьем «на бекасов» в болото. И за все это даже спасибо от неё не требовалось, все это подносилось ей как должное, с видимым страхом, что все это недостаточно хорошо, всего этого мало, с несомненным убеждением, что к ногам такой царицы как она к месту повергнуть лишь разве сокровища Индийской императрицы…
Она «привыкла к нему», да, – и никогда так сильно не сказывалось это ей, как в эту минуту. «Революция какая-то произошла с ним», повторяла она мысленно слова Барабаша; она «могла потерять его», смутно чувствовала она, и какое-то непривычное тоскливое беспокойство мутило ей душу… «И все из за какой-то сентиментальной кислятины»! – пробовала она объяснить себе «выходку» капитана одною из тех забористых «радикальных» фраз, которых, к сожалению, было слишком много в её словах, – но внутреннее, не затронутое чувство правды тут протестовало против такого объяснения и молодое сердце девушки щемило чувство жалости и уважения к тем поводам глубокой скорби, которые прозревала она за образом действий своего обожателя…
– А все-таки дозволить ему сделать эту глупость нельзя! решила она, нетерпеливо похлестывая возжею свою и так очень усердно работавшую ногами лошадку.
Она доехала до Хомяков. Старик лесничий, Лавр Фадеев, сидел на крылечке своей избы и попивал из глиняной кружки целебный чай, который, как мы знаем, учил его изготовлять венгерец коновал, взятый в плен под Дебречином. Он встал и вытянулся, увидав «барышню».
– Здесь Иван Николаич? крикнула она ему.
Он как бы несколько смущенно передернул усом, показалось ей, и замешкал ответом.
– Здоров он? поспешно спросила она на это.
– Ничего-с… здоров, промямкал усач.
– Что значит: «ничего-с?» нетерпеливо вскликнула она; где он?
– Не могим знать…
Пинна Афанасьевна даже в лице переменилась:
– Это что такое? Вы говорите: «ничего-с, здоров», значит, вы его видели! Как-же вы теперь уверяете, что не знаете, где он?
Убедительность и горячность тона этого рассуждения с разу сбили с толку старого, служивого.
– Я, вашес… извините!.. Как мне приказывали, так я и отвечать должен, забормотал он.
– Кто приказывал, капитан? Он приказывал вам говорить, что не знаете, где он? А я сейчас из Темного Кута; мне там прямо сказали, что он здесь… Подержите мою лошадь, – я пойду в нему… что это за мальчишеское прятанье!
Лесник поспешно сбежал с крыльца и взял пегашку за узду:
– Доподлинно позвольте доложить вам, ваше с… нету их здесь, сказал он.
– Как нету, когда я знаю! Он сюда поехал, на вашей лошади, он был здесь…
– Были, да… да ушли, решился наконец выговорить старик.
– Ушел? Пешком, значит?
Он только головою повел.
Она подозрительно прищурилась на него:
– Гулять пошел?
– Стало быть, что гулять, подтвердил он, как бы обрадовавшись такому объяснению, – потому как несколько головой отяжелели… словно сорвалось у него с языка.
Она поняла и примолкла, пасмурно задумавшись…
– В какую сторону пошел он? спросила она через минуту.
Старик внезапно поморщился, отвернув лицо, и махнул неопределенно рукою.
– А все туда-же! проговорил он странным голосом.
Пинна Афанасьевна поняла опять:
– К Ведьмину Логу?
Он пожал плечами и, все так же не глядя на нее:
– Со вчерашнего вечера, молвил он, четвертый раз ходят. Всю ночь хоша бы глаз сомкнули. Проходили вчерась весь день с народом, а и сегодня покою себе не знают… Все это у них в голове, как-мол нам, Лавра, тело оттуда достать, чтоб по християнству, значит, и как они такого большего звания господин были… А как его оттоле достанешь, сами посудите, когда болото проклятое, может, скрозь всю землю идет, и дна ему нет, и только одно, что самому доставаючи погибать следовает!..
– Я его сейчас верну оттуда, вскликнула Пинна Афанасьевна, – а если он опять как-нибудь вздумает, скажите ему, что вы мне пожалуетесь, что, я приказывала вам не пускать его.
Дорога была так размыта третьягоднишнею грязью, что прошло не менее часа времени, пока успела она добраться до просеки, где встретилась она тогда с Коверзневым. Вода, залившая Ведьмин Лог, добегала до половины этой просеки. Она едва узнала место, – как едва узнала капитана, которого увидела сидящим на срубленном пне, у самой воды, с головою низко опущенною на грудь. Он не только не походил на себя, но, как говорится, ни на что не походил. Он третий день не раздевался; лохматый, в порванной в лохмотья, покрытой грязью одежде, со своею потерявшею теперь всякую форму тирольской шляпой, откинутой на затылок, он напоминал тот отталкивающий облик бродяги, в каком на провинциальных театрах традиционно выступает в последнем акте главное действующее лицо драмы Тридцать лет или жизнь игрока.
Какая-то смесь ужаса, отвращения и сострадания охватила девушку при этом виде. Но она нашла силу превозмочь свои ощущения и, осадив лошадь, крикнула ему сколь возможна спокойным голосом:
– Капитан, что вы тут делаете?
Он вздрогнул от звука её голоса – стука тележки он видимо не слыхал, – и подался внезапно вперед с такою как бы испуганною поспешностью, что шляпа свалилась с его головы, и сам он едва сохранил равновесие.