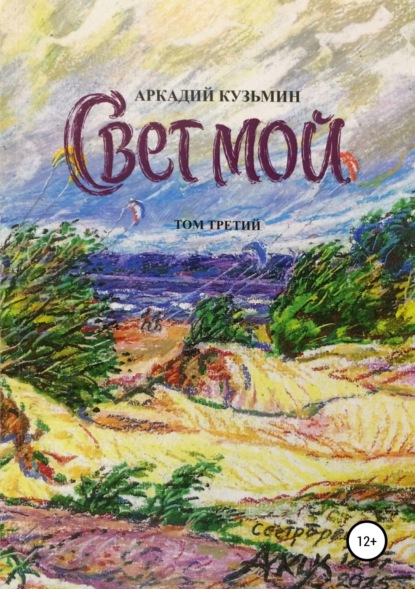По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ее призыв в равной степени касался основательного солдата Стасюка, крепко сбитого и с красновато обожженным солнцем лицом, а также Антона.
– Мы уже идем, – сказал Антон.
– Да, Андреевна, сейчас топаем, – виновато подтвердил и несуетливый Стасик. И тоже взялся за душку ведра. – Только маленько затянусь махорочкой.
– Только, смотрите, съедобных наберите, – наказала Анна Андреевна.
Ребята для нее были бойцы, кого она, хоть и молодая еще женщина, баловала, можно сказать, с любовной нежностью, словно собственных детей, – она пеклась о них по призванию сердечному, готовя пищу, не иначе. Все прекрасно видели это.
Стасюк жадно докуривал окурок:
– Сейчас… Ножичек возьму… Чтоб по-настоящему… Подрезать… И вот курево притушу. А то никак нельзя с ним туда, в пущу… Сушь…
– Позвольте, что вы всерьез поищите грибов? – изумилась, замедлив шаги, военврач капитан Суренкова, такая явно невоенная женщина, хоть и была к гимнастерке.
– Да, взаправду пойдем по грибы, – подтвердил Антон, будучи в каком-то приподнятом настроении оттого, что находился здесь и путешествовал так с военными по прекраснейшим местам России, о чем с малых лет мечтал, – приходите пробовать жаркое.
– О, обязательно приду, – ответила весело капитан.
– А куда пойдем, парень? – спросил Стасюк.
– Наверно, лучше углубиться к западу. Куда ж еще? – прикинул для себя Антон.
– Так считаешь?
– Там вроде бы почище и грибнее, сдается мне, лес. А туда, северней, куда мы ездили на колодец за водой, – бесполезно, сами знаете: там – былая стоянка немецко-фашистской части. Доты, ходы сообщения, колючая проволока, покореженные деревья… Могут быть и мины.
– Ну, пошли сюда! Согласен… Веди… Как разведчик… Доверяюсь.
Было тепло. И благоуханно, терпко-смолисто, тенисто в пуще. С хрустом ломались под ногами сухие веточки. Но уже опять разом взорвана тишина: поднялся артиллерийский тарарам. И странен был разговор у грибников под это буханье снарядов.
Сначала им маслята попались – они не стали их собирать. Потом волнушки пошли.
– Волнушки… Все серые. Сразу их надо вымочить как следует… – говорил Стасюк. – Холодной водичкой залить. Так… Два-три дня постоять дать. Потом, значит, варить, обязательно посолить. Хорошо прокипятить, потом, значит, холодной водой промыть через ситце, дуршлаг. Сюда укропчик, чесночек заправить. Потом опять слой грибков…
– И водой уже не заливать? – спросил Антон.
– Не надо. В них, грибках, хватит собственной воды, – сказал Стасюк. – И хорошо еще, значит, – добавить листочков с кустов черной смородины, для душистости…
– Знаю, Игнат Стасович: мой отец, бывало, – и Антон вздохнул, – так огурцы засаливал. Любил повозиться с ними…
– Сверху заложить тяжелым чем-нибудь: груз! И – готово!
Затем им рыжики попались. Дальше больше. Так что далеко идти им не пришлось.
Антон не хотел брать маленький боровик – решил: пусть подрастет.
Его напарник засмеялся:
– Дело в том, что никто не видел и не знает, как грибы фактически растут. Когда я жил в панской Польше, я знал хорошие грибные места и ходил туда и приносил одни белые, хотя не очень люблю есть грибы в любом виде – они для меня, значит, ничто. Я очень люблю их собирать. Такое это удовольствие. Вот идешь ты, а он стоит, играет с тобой в прятки… Так вот было как-то и со мной, значит, вижу, небольшенненький белый грибочек, думаю: «Нет, не стоит рвать, погожу до завтра – вырастет». Назавтра прихожу на старое место – он опять такой же. Ничуть не прибавил. Послезавтра – опять: не прибавился в величине. Говорят, не любят грибы человеческий глаз: если посмотришь, то перестают расти. Как они растут? Это ж химия… Когда влага. Газом вмиг надуется, выскочит из под земли. И какой гриб надулся за раз, такой и будет – больше уже не прибавится. Больше, значит, запаса газов нет.
Но Антон все же не сорвал этот маленький боровичок: Стасюк его не убедил.
На диво здесь лес, росший не скученно, был еще более чист, подборист, трава негуста, низка (мешали грибникам ходить разве что только сухие, веерообразно отходившие от стволов сосняка веточки – можно было напороться на них) и надутые в основном мраморно-коричневые шляпки боровиков с желтоватой как бы подкладкой и упругой белой ножкой весело торчали из нее повсюду, группками. И все-то они являлись, как на подбор, – сочные, нечервивые, точно кто нарочно наставил их столько, чтобы изумить. И Антон изумлялся (такого количества их еще нигде не видывал). Он даже испытывал в душе уже и некоторое разочарование от небывалой простоты их сбора: не пришлось буквально ползать под кустами, ветками и разгребать лесную подстилку из травы и опавшей листвы, порой похожей на грибные шляпки. Но, главное, хотелось брать грибы больше и больше, сколько могли руки унести, – общая болезнь всех грибников.
Быстро ведра были полны добычей…
– Молодчина, ты шустро грибки собираешь, видишь! – похвалил Антона бывалый Стасюк, когда их уже некуда было больше класть.
– А они и не прячутся тут – все на виду, – нашелся Антон.
– Много, значит, что ты молод – скор на ногу; скачешь, что вьюнок, туда-сюда. Зырк-зырк. За тобою не угонишься. Ты много грибничал, скажи?
– Нет, только до войны… И все…
– Да, стало всем не до грибов: собирать-то некому…
В небе нарастал неровный самолетный гул. Он заставил Антона вскинуть голову. На его глазах шедший на посадку истребитель «Як» вдруг, чихнув мотором и неловко клюнув носом, и перевернувшись, начал падать; комочком выбросился из него пилот, плеснув шлейфом парашюта. Вот и раскрылся парашют – белый, легкий, грациозно закачался он, снижаясь, в просторной синеве, над зелеными макушками деревьев, почти в тот же самый момент, как содрогнул землю тупой удар упавшего истребителя.
– Может, помощь там нужна? – спохватился Антон после некоторого оцепенения. – Сбегаю туда?
– Давай тогда свое ведро, – сразу предложил, посумрачнев, Стасюк. – Мои-то кочелды уже не так быстры – не угоняться, не обессудь.
– Ну, что ты, что ты! – И Антон помчался в направлении падения истребителя и вероятного приземления летчика, куда его сносило упругим ветром.
Да, сколько раз особенно прошлым летом подо Ржевом Кашин наблюдал падение сбитых, объятых пламенем немецких и наших самолетов, в том числе и прекрасных бесстрашных «Илов», и видел их, упавшие, вблизи; но он еще не видел очень близко спасшихся летчиков, так что каждая связанная с этим человеческая трагедия представлялась ему неполной, как бы несколько обезличенной, что ли.
Что это так он почувствовал тотчас же, когда в конце-концов, разгоряченный, выскочив из лесных зарослей на этот край солнечной поляны, увидал прямо и непосредственно в лицо уже спустившегося на парашюте героя – живого, невредимого. Заметный сразу среди сбежавшихся людей, товарищей своих, у островка кустарника и берез, в высокой спелой траве, он, в темном шлеме и комбинезоне, стоял в их окружении мрачный и чумазый.
Все его мысли, должно, еще кипели внутри борьбой, только что происходившей там, в воздухе, и его словно какое-то пристыженное в то же время состояние поразили Антона больше всего из того, что он уже привычно видел прежде; несмотря на вроде бы застыло-отрешенный вид летчика, его дрогнувшее скуластое лицо выражало скорей всего отчаяние от случившегося и невыразимую боль и досаду на себя, как будто он один был виноват во всем, кругом один, – что не сумел-таки дотянуть до аэродрома и спасти подбитую боевую машину – истребитель. Ведь почти уж дотянул! И в этом ему сейчас никто не мог помочь ничем, понимали все.
Набежавшая в основном с аэродрома толпа, бессильно обсуждая случай, волновалась, жила. А летчик внешне неподвижно и бесстрастно уставился только прямо туда в кромку леса, куда – среди трех сосен – рухнул носом его истребитель и вовсю горел, треща, сжигая и деревья в заполыхавшем жирном факеле – в некотором отдалении отсюда. И, казалось, даже и при ясном дне жаркий и черный отсвет отражался в глазах летчика, на его лице. Там слышно уже рвались неизрасходованные боеприпасы, мог взорваться и сам самолет. Поэтому ближе никто не подходил. Лишь один смельчак, на которого поначалу шикали, приблизился зачем-то…
Точно не замечая никого и ничего, и никакой природной благодати, летчик, видно, действительно еще был весь там, наверху, в небе, где только что, пронзая, подобно огненно-красной стреле, облака, разил проклятого врага, нагло покусившегося на чужое. Понятно, для таких бойцов, падающих с неба, хуже нет того, чтобы в самый разгар боев остаться без боевого друга – машины, послушной, не подводившей никогда; хуже нет похоронить ее неожиданно и почувствовать себя, хоть и временно, не у настоящего дела. В этой потере горе было невозместимым – он на какое-то время выбывал из общенародной борьбы.
Только через состояние летчика, которое Антон увидал, он увидал трагедию по-новому: что говорится, вживь – такой, какой она бывала для всех летчиков, для всех смелых настоящих воинов.
Возвращаясь, Кашин не сразу заметил на опушке капитана Суренкову, затихшую в каком-то ожидании. Она тоже, значит, прибежала сюда!
– Догорает, ничего не сделаешь, – по-взрослому рассудительно проговорил Антон, подходя. – А мы-то все-таки грибов насобирали – много, товарищ капитан…
И осекся. Невзначай сорвавшиеся нелепые, глупейшие слова, никак неуместные здесь теперь, в такой момент, замерли на его губах. Какие тут грибы? Причем они? До них ли?.. Опять он невпопад? Чувство возникло такое, будто опять он был в стороне от чего-то главного, большого. Благо то, что она его не слышала и, больше того, не видела, кажется. Отсюда, из-под свесившейся густой, тенистой кроны раздвоенной сосны, она наблюдала, а вернее, созерцала, затихнув, все происходившее перед ней широко открытыми грустными глазами.
Говорил кто-то, что ее родной брат служил то ли моряком, то ли морским летчиком на Балтике. Она не получала от него никаких вестей уже с осени 1941 года. Как и Кашины – от отца. Из-под Ленинграда.
В послеобеденный же час приехали на конной повозке с квадратными цинковыми баками за водой в северный край урочища. Где, казалось, глохла тесно, хмуро – угрюмо лесная чаща, мало пропускавшая солнечный свет; здесь никакая птичка не порхала, не свиристела – царила настороженность во всем, хотя и близко отсюда снаряды рвались. В этой части леса гитлеровцы долго пребывали и обстоятельно, с неким комфортом для себя оборудовали целый земляной укрепленный городок с вырытым колодцем на окраине. Рядом с местоположением служак – управленцев никакой реки не протекало, не было никакого водоема. Так что управленцы стали пользоваться водой из этого колодца, который открыли; медики, взяв пробы, проверили и убедились в том, что вода в нем не была отравлена. Немцы поспешно убрались отсюда под натиском советских войск.
Да, здесь только что гнездилось кровожадное немецкое воронье, и еще мрак от него расходился в округе, пугал приходящих сюда; Антона, да и Стасюк тоже, испытывали состояние, близкое к тому, будто за ними, безоружными, внимательно следили из-за укрытий холодные вражьи глаза.