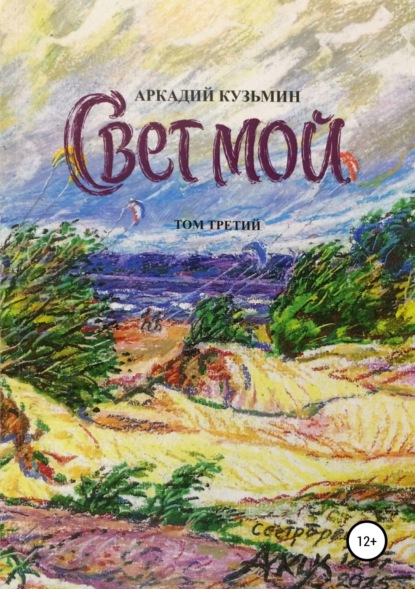По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Близ Кашиных возник неказистый мужичонка с пляжной сумкой и палками и, придирчиво оглядевшись, порасчистил себе место. Затем занялся и строительством: заколотив в гальки палки, натянул на них простынь – укрытие от солнца. Вскоре пришла к нему насупленная толстуха – жена с поджатыми губами – принесла с собой на груди беленькую собачку с маленькой злющей мордочкой, посадила под этот тент. Стало понятно, для кого готовилось это обустройство: сидело тут животное – царствовало, нежилось. Жена на мужа пыхтела, сверкала глазками. Постоянно. А эта собачонка без устали визгливо обтявкивала всех. По волнолому весело бежали местные ребятишки, мелькая пятками, – облаяла их; дети, вылезая из воды, вымазались в песке, – облаяла и их; дама по соседству надела цветастые брючки – и ее обтявкала тоже. Никого не пропустила тишком.
А рядом ватага загорелых сорванцов волокла к морю темную лохматую собаку. Они скинули ее с волнолома, сама поныряли, поплыли вместе с ней к берегу. Вылезла она на камешки, бухнулась на низ и стала валяться, отряхиваться от воды. Счастливая, лежала подле них. После детвора бегала и командовала ей:
– Бежим, Кузя! Догоняй!
И она послушно носилась туда-сюда.
Девочка-трехлетка протянула ей сорванную травку, и та дважды жевала пучки. Кажется из-за доверия, приличия или просто хорошего воспитания.
Все тамошние собаки таковы, вечно, видишь, деловитой походкой спешат куда-нибудь или сопровождают кого-нибудь (даже строй пионеров), не то, что некоторые заезжие неженки, которые самой простой и невзрачной собачьей породы, а уже приучены по-человечески нежиться и брюзжать ни с чего на весь белый свет.
И вдруг все пляжники всполошились. Сорвался крик – седой мужчина взывал с валуна:
– Сюда! Скорей сюда! Кто хорошо умеет плавать? Тонет человек!
Но тонущего не видно было из-за ряда цементных блоков, защищавших берег от размыва. Оказалось же всего-навсего: молодого толстяка здесь, перед берегом, укачало на волнах, бьющих в каменную стенку, вдоль которой он плыл, и он испугался, не почувствовав опоры дня под ногами, вместо того, чтобы тотчас отплыть подальше от укачивающих волн и успокоиться.
Пловцы – добровольцы помогли ему выбраться на пляж.
И полз ленивый разговор среди пляжников.
– Что, вот этот?! Этот намудрил?!
– Да при всем желании он не смог бы утонуть. Ему, толстому, легче же держаться на воде, чем нам, перекладинам.
– А он и не тонул. Махал руками и кричал: «Лодку! Лодку сюда!»
– Да ты перевернись на спину – и все, лежи, отдыхай, сколько хочешь.
– А ты закричал бы в таком случае?
– Ни за что бы! Что я сумасшедший? Вблизи-то берега… Засмеют…
– Вот и я бы не закричала. Стыдно как-то…
В самоходных шлюпках проплывали пионеры, напевали что-то.
– Почему они поют? – спрашивала Люба.
– Там, посмотри, сидит пионервожатая и руководит ими, дирижирует, – объяснял Антон.
На солнце наползали облака. Становилось вроде прохладнее.
– Ой, накрой меня чем-нибудь со спины. – Она читала книгу.
Он накинул ей на плечи второе полотенце.
На третий день штормило. Волны глухо, сотрясая, бились о берег, раскидывали камни, валуны; с тополей обламывались ветки, сучья, они падали на крыши, на землю; полоскались в небе пирамидальные тополя, кипарисы, слышались предупреждения, усиленные по диктофону:
– Ввиду шторма на пляже находиться запрещается!
Увы, кроме ежедневного загорания и купания (а для Антона еще и писания акварелей натурных), для Кашиных тоже деть себя стало совершенно некуда. Люба поскучнела. В здешнем пионерском дворце, в котором некогда бывал среди знаменитостей и Шаляпин, не оказалось достойного для просмотра фильма, и не хотелось также тратить время больше, чем следует, на прочтение мемуаров и других толковых книг, стоявших на полках в доме Одинцовых. Так что Кашины, подобно всем отдыхающим, съездили на прогулку в Ялту. Там побродили с толпой вдоль по набережной, вроде бы соблюдая такой неписанный, но необходимый для отдыхающих моцион. С каких-то давних времен.
С моря дул немилостивый, жестокий ветер, водяные брызги залетали на набережную, обдавали прогуливавшихся отдыхающих. Еще ходили по магазинам. И стояли в очереди в ресторан.
– Представляете по всей Ялте тут у всех ресторанов перерыв с пяти до семи дня! – возмущалась женщина.
– Ну, хоть с газетами здесь нет проблем, – говорил мужчина. – В Симферополе их печатают. – И совал ей в руки газеты.
– Вот! Кому что! – посмеялась она.
Тут Люба радушно поздоровалась с тоже занявшей за нею очередь немолодой деловитой женщиной в темно-синем наряде.
– Здравствуйте! – Та быстро взглянула в нерешительности. – Что-то не припомню вас…
– На пляже в «Артеке» вы подходили к нам, раздетой… С коротким разговором. Жаловались на мигрень.
– А, всем говорю, – уже завелась с полуоборота узнанная, – Ну, скажите, что за хлипкая погода нынче! И сын ругается: он у меня художник, а дождь мешает ему писать этюды… Большой, а нужно опекать его постоянно.
– Пусть зонтик берет с собой, право, – сказала знающе Люба.
– Говорит: тяжело его таскать.
– Тогда пускай под навес или под крышу прячется…
– Нет, что вы хотите! Ему непременно нужно влезть куда-нибудь подальше, чтобы был особенный обзор или вид. Все обозреть ему надо. Все успеть… Выходного нет никогда. Ведь художники все с приветом.
– Да, да, я понимаю! – и Люба рассмеялась по-тихому.
– Да только не всегда это люди понимают, – со вздохом добавила женщина. – Все дается очень трудно в жизни, наверное: и сыну, и матери.
– И жене, – добавила Люба.
– Хорошо: у него пока этого добра нет, – сказала та.
И Люба откровенней рассмеялась. Видно, вовсе не случайно.
В обратный путь до Гурзуфа Кашины, накормленные и отчасти повеселевшие (от полусухого молдавского вина), отправились неразумно на рейсовом катере. Опрометчивость свою они, как и все пассажиры, почувствовали тотчас, едва выплыли за пределы порта – на морской простор. Бурое вздыбленное море ходило ходуном, и не было ни малейших признаков, как надеялись, на его какое-то успокоение под зудящим ветровым напором. Волны били, хлестали о борт, играя с суденышком с чрезвычайной силой; оно плясало на них и поминутно проваливалось, так что всем стало не только страшно, но и непосильно переносить его качку и пляску под ногами. Того и гляди, загремишь куда-то в тартарары.
Они мучительно еле-еле доплыли до Ботанического сада. Любу, несчастную, мутило и даже после того как они, качаясь, сошли здесь на берег. Вообще ее вестибулярный аппарат не отличался надежностью. В отличие от способности управлять собой Антона. Потому она сердилась на него из-за того, что позволил им поплыть в такую непогоду. Им было уже не до осмотра ботанических чудес. Они, не задерживаясь здесь, поднялись пеше до самого шоссе и вышли к автобусной остановке.
Люба раздосадовалась от такой невезучести.
– Чтоб я с тобой еще поехала – и не думай, не проси! – в очередной раз проявилась ее фобия – уверенность в том, что все несчастья, происходящие с ней, большие и малые, исходят точно от него – от кого ж еще? И такие незадачи она помнила долго – и вовсе не как случайность, а как явную злонамеренность против нее. Укоряла его при случае этим или другой неудачей по его же несомненно милости. Ведь он мог бы и предусмотреть последствия. Зачем же тогда он при ней!
И было непонятно, сколь всерьез предъявлялись ему такие претензии.
И все же в целости, хоть и потрепанные, добрались они до «Артека».