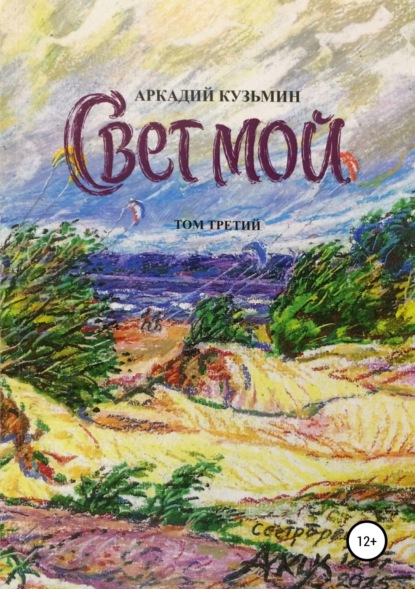По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дать попить чего-нибудь?
– Нет, дай платок. – Она вся изревелась. – Но вскоре вроде бы затихла.
Он определенно понимал: она сама с собой боролась, выбирая судьбу, как ей дальше быть, желая и страшась неизвестного нового.
Тут его разговоры-уговоры уже кончились.
V
Антон не знал, как это случилось. Все было обыденно. Как всегда. Никаких особенностей. И теперь ругал только себя, считал себя невольным виновником происшедшего охлажденья сердец.
И погода хлипкая, осенняя не радовала.
Люба вздохнула, воскликнула, на ночь глядя:
– Господи! Дай мне хоть немножко какого-нибудь интеллекта! Пожить нормально…
– Я ложусь, – сказал Антон. – Уже поздно.
– Ложись. Кто ж тебе не дает. – Отстраненный тон в произнесенных словах Любы.
Холодны и стены золотого города, власти каменны. Нет понятия у них. Не жди его. И не говори о том. Все впустую.
«И верно, верно, видишь все; и не постичь того – непостижима предопределенность самоустроения земной круговерти, хотя в теплом солнечном разливе и видишь вживь животворящие дали, наслоения утесов, висящую гроздь налившейся рябины и обессиленный листочек с прожилками омертвления… Все красиво… Ты слышишь, слышишь отстраненный тон в ее словах – посыл неверия…
Что важней всего? Состоятельность духа. Как бы не забыть начала. А где оно? Какое было? Все верно, кроме истины во всем. Нужна она? Ее нет. Есть одно незнание. Пустая алгебра, схоластика. И незнание зависимо. Есть только вера. Подмена – суть понятия. Упрощение всего. А этого не должно бы быть. Не было бы теперь и ослабления интеллекта у человечества. По мере его существования, карабканья и оглядки на самого себя, на ублажения плоти своей, растрате энергии зря, по-пустому… Всем известно… Стихиен, подвержен коррозии…»
Люба в своих доводах находила неоспоримое оправдание: любовь, причем не слепую, а единственную верную, свою великую. И когда Антон спрашивал: почему же она это делала втайне, поясняла:
– Боялась сказать.
– Почему же? – спрашивал Антон. – Ведь я пальцем тебя никогда не тронул.
– Я была так воспитана. В покорности.
Но он-то точно знал, что она была всегда непокорна отцу и бегала из дома, когда он проявлял гнев против нее.
Неверность она не считала изменой, а под любовью предполагала постель; остальные чувства мужчины, как внимание, предупредительность, верность, ее не волновали вовсе.
Антон знал, что она знала, как он не любил говорить о постели вот так обыденно, словно в оправдании себя и всегда нападала на него с этой стороны, считая, видно, себя знатоком мужчин.
Она не знала минуты слабости или снисхождения, противореча мужу; она знала лишь одно: она не увидела ни Парижа, ни особняка лишь из-за него, непронырливого, честного, хотя надеялась на нечто особенное, выходя за него, интеллигента, творческого человека, замуж: значит, выходила из какого-то расчета. Ну и, наверное, была все же у нее кое-какая любовь. Не без этого безусловно. И вот ее-то она ему теперь не простила. Он был виновен. Часы пробили. Решено.
И с таким ее решением он более чем согласился. По разумению.
И она ему еще сказала напоследок:
– За что ты так ненавидишь меня? Я никак не ожидала, что до этого дойдет… Ты всегда же относился ко мне добро… – Она сидела на постели полуголая, обняв руками колени и бесстыдно обнажив ноги. – Больше ты мне ничего не предложишь?
– А что я должен? Ты ясно скажи. Не говори намеками, – сказал Антон.
Она молчала, о чем-то думая.
– Что, тебе мало того, что я предложил?
– Да, все беда моя в том, что я все-таки ожидала помощи от тебя, на тебя больше надеялась, чем на него.
– А идешь к нему, мальчику своему? – Он развел руками. – Кончили, голубушка, этот разговор.
Ему уже претило ее умышленное, как он понимал, непонимание его. И он хотел, чтобы она теперь думала о нем хуже, чем он был и все делал на самом деле.
И было ему странно собственное вынужденное поведение.
От этого его никто не оберегал.
«Так вот обжигаются и вот реальное лечение», – нашелся Антон что сказать самому себе в связи с глупой болезнью, но только исключительно о сходном с этим глупейшим положением своим во взаимоотношениях с женщиной, которую любил: она ни за что дальше не могла оставаться для него другом, не могла и не желала этого, а тем самым разрушала его налаженную жизнь и, следовательно, его жизненные планы. Надо было начинать жить сначала в тридцать два года, т.е. выходило – со второй любви, коли он хотел жить нормальной семейной жизнью. Это он понимал и осознавал, только, понимая и осознавая, боялся все представить себе. Он нравственно еще был скован и чувствовал себя так, как человек, опутанный повязками и бинтами по груди и плечам, когда нельзя было ни пошевелиться, ни лечь на больную спину и плечи, ни сделать лишних движений тела, ни вдыхать полной грудью, чтоб не расслаблять повязки.
И, действительно, было тут все похожее. Солнечный ожог, полученный им на пляже в Хосте, когда он писал этюд под солнцем увлеченно – и не остерегся. С ним он прилетел в Ленинград и лишь на третий день пришел в больницу Эрисмана.
Когда в больнице при перевязке проходившая мимо медсестра взглянула на его обожженную спину, она удивилась, затем ухмыльнулась, и Антон, встретившись с ней глазами, тоже улыбнулся ей весело. Ну, не плакать же ему из-за глупости своей! Но было все же больно, очень больно, так, что хотелось кричать и сердце заходилось, сжималось, переставало стучать, когда сестры снимали пинцетами обожженную кожу и накладывали повязки с какой-то особенной жгучей мазью после того как обработали раны кислородом из подушек.
И это казалось пустяковым поправимым делом. Его могло бы и не быть, но оно было очень болезненным, беспокоящим. Но когда на третий день он сказал медсестре, делавшей ему перевязку:
– Сколько Вы со мной возитесь, извините, – она ответила просто:
– Не с Вами, так с другими придется.
Все верно. С ним произошло то, что с другими бывало.
С ним разводилась жена.
Как все сделалось, он не знал, но постепенно стало так, что ни она, ни он уже не были теми, кем они были друг для друга прежде – и год еще назад; все теперь у них разорвалось и было ни к чему, даже было теперь ни к чему соединять эти разорванные концы.
Антон тут вдруг отчетливо увидел Ольгу, поразительно такой, какой он ее еще не видел или не хотел видеть до сих пор – ни девочкой, с которой встретился и которую все время видел перед собой, ни девушку милую, которую мало что любил, но боготворил и которой мог прощать многое. Он увидел перед собой вместо любимой просто ставшую взрослой женщину, которая надменно не то, что его ненавидела, а презирала с какой-то свойственной ей изумительной жестокостью.
И откуда это все скопилось в ней? Уму непостижимо.
Впереди же был второй перевал. Ему предстояло его перейти. И он перешел его с потерями. Но что-то человеческое в себе сохранил. Старался сохранять без поддержки даже жены. Иначе – бессовестно жить на свете.
VI
Ночью, в предутренний час, Антону опять осязаемо снилось корявое деревце, перед которым он сидел, как пан, – он отчетливо видел себя и его за собой; оно было похоже на тот корявый дубок, который рос за двором прадеда, посаженный им, с черной вороной на суку, и который он запечатлел на одном из первых своих этюдов маслом весенним утром на фоне проснувшейся зазеленевшей озими. За этим дубком сбегала тропинка вниз к пруду, в котором они, ребятишки, купались, и к речке малой, пересыхающей иногда в жару. И по тропинке той, едва обозначенной Антоном в этюде, еще бегала девочкой его мать и таскала ведра с водой и в корзинках белье, которое стирала.
Почему-то ему повторно снились некие зрительные моменты, очень похожие на виденные им в жизни, будто невзначай сама по себе прокручивалась пленка с записями. Особенно роскошно показывались сельские пейзажи (целая серия их) с буйствующей непогодой, когда все в движении, в объеме. И когда у него нет времени, чтобы эти пейзажи написать. Хотя бы попробовать их повторить.
И еще наутро по сути Костя Махалов сказал Кашину при встрече на работе – в коридоре издательства:
– Я был сейчас там, в Пеште, где был ранен в сорок пятом и убит, как считали в моей части разведывательной. Во сне, конечно. Приснилось. – И вздохнул. – Жаль ребят. Я там, на Дунае, из-под моста, фонариком светил катерам – мигал, знаки подавал, где им лучше пройти. Мы на разведку вышли. Потом я, раненный, плыл к берегу…