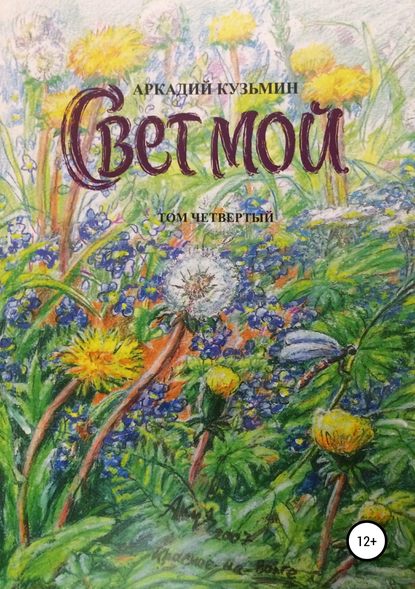По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 4
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я все, сынок, должна – по-должному никак не получается.
– Мы понимаем…
– Только вы всего ужасного еще не можете, не можете понять: оба вы такие молодые… Это, как я догадалась, жена ваша? – и собеседница, едва Антон утвердительно кивнул, предложила всем прежде познакомиться и представилась, назвавшись Ниной Федоровной; а едва он также назвал Любу и себя, немедленно повела форменный допрос: долго ли они живут вместе, отдельно ли от родителей, есть ли дети. – Пока нет? Живете вместе год? Господи, какие вы счастливые! – с такой неподдельной завистью вырвалось у ней, что и Люба, вспыхнув, чуть ли воскликнула:
– А в чем, по-вашему, счастливые, Нина Федоровна? Да мы еще молодожены. У нас – двухгодичный стаж…
Нина Федоровна оттого, возможно, потеплела и смягчилась: она впервые улыбнулась.
– О, вы, Любочка, еще не знаете, не представляете себе, что значит быть свободной от такой обузы?! От бессонных ночей и бессильных слез? Ну, тогда вы точно самые счастливые на свете… В отпуск едете? Куда же?
Люба сказала, что едут в Крым. Но в точности пока не знают: где там обоснуются, где приглянется побольше. Поближе к морскому пляжу и мало-мальски сносной еды.
– Вы что же, дикие?
– Точно, точно: дикие! – откровенно усмехнулся Антон и добавил: – бежим в отпуск туда, где потеплей.
– О, я на себе испытала сполна ваш «гостеприимный» климат: мигом приковал он меня к постели, – вспыхнула Нина Федоровна. – Иной час порадуешься: ведро! Однако, глядь, мгновенно облачина заползет куда-то, небеса закроются – и по-новому польет дождик нескончаемый, будь он неладен трижды…
– Эта всевечная сырость, да, пробирает до костей-бр-р-р! – посетовала Люба тоже. – И разгуливают потому у нас частые простуды, кашли, гриппы, характерны астмы. Хотя мы, коренные ленинградцы, вроде бы не замечаем уже этого – попривыкли.
III
– А мы вот едем ко второму сыну и невестке, – с особенной значительностью сообщила Нина Федоровна, гипнотизируя странным долгим взглядом. – Тоже в Крым, в Керчь, там они своей семьей живут. – И, осклабившись, прибавила скороспешно, как бы зарекаясь или клянясь в чем-то: – Только мы не будем, не будем у них останавливаться. Туда попоздней скатаем на недельку – их проведаем лишь; у нас с Колей пропасть дел в Севастополе, потому как он родился в нем, а города так никогда и не видывал – судьба ему не позволила. Бог даст, мы теперь рассмотрим его хорошенько.
Несомненно, она не договаривала нечто существенное, занимавшее сейчас ее: на что-то такое она постоянно натыкалась в разговоре – и умышленно сворачивала в сторону или замолкала вовсе. Причем ее будто знобило: она зябко свела плечи. Что-то ее угнетало.
Резким движением, как она все делала, она протянула к столику руку и вытащила из черной лакированной сумочки, лежавшей на нем, коробок со спичками. Однако, словно испугавшись того, что она хотела сделать или что сделала совсем-совсем не то, что хотела, она и резко засунула его обратно в сумочку. Защелкнула ее и отставила от себя подальше. Коля, теперь следя за ней настороженно, с неудовольствием, чуть насупился, что барчук; но как только вагон толкнуло, от толчка он качнулся вперед лицом и, высунувшись за дверь, стал деликатно разглядывать все, поплывшее там, за окнами, на светлевшей улице.
Слышно заперестукивали вагонные колеса – все быстрей и веселей.
Электровоз, все увеличивая скорость, рывком на ходу наддал еще; дверь купе, задвигаясь, с характерным лязганьем выкатилась из простенка. Коля снова ее отодвинул. В ту минуту зарево заката пробилось сквозь неплотную, распадающуюся завесу сырых облаков и пробрызнуло в затрясшийся вагон. Оно, как будто тоже дрожа, красновато отсветилось на измученном лице Нины Федоровны, и она прижмурилась на миг. Потом вновь потянулась к отставленной сумочке, расстегнула ее судорожно (повторилось и Колино неусыпное слежение, главным образом, за манипуляцией ее рук). Но и тут же бросила в сердцах, поскольку в купе зашла, ворча сама с собой, сухая проводница.
Пока та присев на краешек дивана, проверяла один за другим проездные билеты и медленно, аккуратно их складывала и рассовывала по пронумерованным карманчикам измусоленной брезентовой сумки с отделениями, раскинутой у нее на коленях, Нина Федоровна сидела еще неспокойнее: зябко ежась, с нетерпением дожидалась ее ухода.
IV
– А вы?! Разве не будете курить?! Отчего же вы не курите?! – Нина Федоровна, без преувеличения, даже задохнулась от удивления. И, пожалуй, с излишней нетерпеливостью либо жадностью, что ей было уже трудно, невозможно скрыть, схватила опять сумочку и извлекла из нее начатую пачку папирос, спички. Нервным движением быстро, словно опасаясь, что у нее отберут это все, сунула папироску в рот; стала нервно чиркать спички о коробок – одну (сломала), другую…
И только Антон запоздало сказал ей, что, к сожалению, не сможет составить ей компанию, что он – некурящий, как она призналась откровенно, с каким-то облегчением:
– А я-то, чудачка, все смотрю на Вас и мучаюсь: «Да когда же он закурит, чтобы мне с ним заодно подымить?!» – Жадно затянулась зажженной папироской, глотнула, словно пробуя на вкус, табачный дым, и, выпуская его изо рта, продолжала: – одной-то мне, женщине пятидесятилетней, вроде бы и стыдно начинать вперед мужчины. Да и ждать мне также невтерпеж: нервы расшатались… С самого утра я взвинчена… Ну, позвольте, тогда я выйду в коридор почадить.
Она привстала, но так закашлялась от крепкого табака, что ее перекосило всю и она идти не могла.
– Боже! Да курите, пожалуйста, здесь. Вы садитесь! – воспротивились Кашины ее намерению выйти. – И она в купе осталась. Присела на диван, прокашливаясь:
– Я не могу. Я наизнанку выворачиваюсь. У меня такой кашель… Душит меня всю… – И затем спросила, возобновляя как бы прерванный разговор:
– И вы, сынок, никогда и не курили?
– Нет, раза два баловался в одиннадцатилетнем возрасте. С братом. Прятались в подвал, чтобы домашние не слышали запах отцовской махорки. Но нас отец разоблачил. Любя нас, всыпал нам ремнем. Он был у нас чрезвычайно строг и справедлив.
– Ну, это же совсем-совсем не то, – с запальчивостью возразила Нина Федоровна, отчего все дружно рассмеялись до слез, хотя она, кашляя, так и не поняла, что вызвало такой шумный подъем веселья. В том числе и у Коли.
– Почему же, Нина Федоровна?
– Потому, сынок, что настоящий-то вкус к табаку прививается позднее – в зрелом возрасте, – разъяснила она, настроенная на весьма серьезный лад.
– Да, баловство курильщика у меня тогда прошло в момент. А вот младший брат, напротив, увлекся с тех пор, несмотря на кардинальные отцовские меры.
– Верю: бывают исключения. – Нина Федоровна вглотнула сквозь слезу густой табачный дым, на сей раз справилась с кашлем, и ее гипнотизирующие глаза подернулись словно туманом. И заметнее проблескивали – уже блеском опьяненной.
– Все исключительно зависит от самого себя.
– Знаю: люди живут для себя. Но у вас, видать, сердце хорошее, – объяснила собеседница не то с жалостью, не то с грустью. – А я и бросала… И все напрасно: возвращалась к прежнему – к куреву. Меня, должно, бог наказал за что-то. Вот последний раз это было в день Первого мая. Накануне вернулась из больницы, ослабленная, издерганная – жуть. У всех был праздник, радость, а у меня такое горе, что впору б только повеситься… – И она как-то неловко взмахнула рукой, точно хотела побожиться-перекреститься. И Коля, словно позволяя ей свободней высказаться без него, молчаливо встал и вышел в коридор. – Все праздничные, разодетые шли мимо моих окон, с демонстрации, песни пели, плясали, а я неприкаянная, злая сидела дома. Пришел мой брат двоюродный, мой бывший опекун добровольный, тогдашний друг незаменимый (я была его питомицей когда-то, в юности). А я до этого курила, но перестала: врач наложил запрет, и я не курила уж месяца два. И теперь одна сидела за пустым столом, зубами трескотала, да совершенно не от холода. «Что с тобой, сестра? Что с тобой?» – подступился ко мне этот брат, уже ставший давно черствым и глухим. И тут я неожиданно решилась заново: «Папиросы есть у тебя?» – Он похлопал себя по карманам пиджака и брюк растерянно: «Нет с собой. Оказия: забыл!» Я как закричу в его ненавистное бабье лицо: «Да что вы, сговорились?! Не даете мне хоть этой гадостью отравиться!» – Вскочила. Разревелась. И упала на кровать. Он проворно-таки понесся куда-то и мигом принес две пачки папирос: «На, сестра, кури!» И я, задымив, отошла немножко. А чуть погодя пришел домой муж, застал меня с чадившей папироской. И выхватил ее у меня, швырнул на пол и растоптал: «Чтоб я больше не видел отраву у тебя! Ты себя губишь окончательно…» А какое там!
– Вон монпансье взамен.
– Ах, сынок, Вы шутите: не та замена, нет; во всяком случае, она – не для меня. Это ж конфеты, значит, сладкое. А мне-то надо горькое. И чтобы оно меня хватило вот досюда. – С каким-то отчаянием и решимостью она махнула рукой выше груди, как отрезала. И снова затянулась папироской.
– Но, выходит, что отвыкнуть все же можно; сами говорите: не курили сколько-то.
– Да, понятно, можно все: но, должно быть, не при моих теперешних бедах, – подчеркнула она. – Когда я по-серьезному бросала курить, то отвыкала постепенно: вначале не курила перед завтраком, натощак; зато пила крепкий кофе, чем не меньше возбуждала слышно шалящее сердце. И уж появилось ощущение, что недоставало мне чего-то. И ходила неуверенно-нетвердо – точно ступала по чему-то мягкому и зыбкому, наподобие ворсистого ковра. И висел перед глазами отуманивающий дым или какая-то тягучая сизая пелена. По-видимому, мой расшатанный донельзя организм уже настолько привык к табачному яду – и уже активно вырабатывал свое защитительное противоядие. Так и не смогла я себя пересилить – окончательно не курить, как ни боролась с собой, и как ни ополчались на меня мои домочадцы – контролеры неподкупные. Без куренья недолго обходилась. Самое большее – три месяца. И то: я днем дымлю почему-то меньше.
– А ночью разве больше? – изумилась Люба.
– Одолела меня скверная привычка – порождение бессонницы. Сплю я все хуже и хуже. Это старчество в мою дверь стучится. Проснусь я, сразу вспомню про свои горючие беды – и разочек всласть затянусь папироской, пожую ее. Закашляюсь. А как закашляюсь, так, значит, сон мой окончательно уже свернулся. А свернулся сон – значит, нужно по-настоящему курить: нужно досыта наглотаться никотина. Чтобы, значит, как-нибудь опять заснуть. Чтобы все забыть и забыться на мгновение. Значит, потихоньку, тайком курю – и безудержно кашляю. Так невольно бужу своих стражей… Только вы не бойтесь: ночью постараюсь вам не досаждать.
– Разве я об этом беспокоюсь, Нина Федоровна?
– Я к слову, доченька, сказала… Потому, как духу во мне не сбереглось ни капельки. Привыкла что-то держать во рту. И вот вволю накурюсь, а оставшуюся махорку кину под плиту. А потом, когда меня снова припрет, лазаю под плитой, на корточках, и собираю свои окурки давние. Вы не стесняйтесь, скажите мне… Если что – я выйду… покурить…
– Кстати, вы не видели недавний фильм «Женщины Востока»? – спросил Антон.
– Видели. У вас, к несчастью…
– Ведь как неизлечимо мучаются курильщики опиума.
– Там другое все, – отрезала Нина Федоровна и оглянулась, чтобы, очевидно, убедиться в отсутствии сына. – Меня же в том фильме убийственно поразило сожительство жены с пятью мужчинами, братьями, согласно каким-то восточным вековым традициям. Есть, известно, женщины с бурным нравом – меняют, или коллекционируют, мужчин чисто из-за спортивного интереса (мода людская на все распространяется); есть испорченные и мужчины – за мамошками волочатся направо и налево. Относительно тут все объяснимо. Ну, а это, – одной жить одновременно с пятерыми молодцами в одном доме, да еще под приглядом вскормившей их матери – это меня сразило наповал. Несчастная мать и сама сознает, что этот отживший обычай противен чести и морали здоровой семьи: она вскоре правильный совет дала сыновьям, вступилась за их честь, отвела от них позор. Но каково-то ей пришлось! Ведь каким неблагодарно-тяжким трудом достается нам, матерям, то, чтобы сделать детей настоящими хорошими людьми, правильными и честными. – Она помедлила. – Одну поговорку я запомнила: «Лето дается всем, а счастье – некоторым». Болезнь ничего не спрашивает. И недавно мой лечащий врач (я хотела вызнать у него, как мое сердце? То затрясет меня всю, то отпустит), сказал мне со снисходительной улыбкой: «Это у вас, сударыня, уже возрастное, застарелое». А я, как мать, познавшая и испытавшая немалое, сама превосходно знаю, что это такое – воспитать детей достойными, полноценными людьми…
Она была в душе занята чем-то сокровенно-мучительным. Разговор у нее все время вращался – что заведенный – вокруг ее сложных материнских чувств и долга.
V
– У меня их трое, сынков, – таинственно-взволнованно затем объявила Нина Федоровна. Хотя двое из них уже отбились от рук моих (собственные семьи завели), это ровным счетом ничего не значит для меня. Поверьте мне.
Посмотрю я на теперешних парней-подростков: в шестнадцать-семнадцать лет они еще сущие дети – бегают по переулкам либо с такими же малолетками-девчонками, либо начинают путаться с девицами за двадцать лет, что опаснее любой заразы. И, представьте, уже семнадцатилетние, будто завзятые сердцееды, заправски уговаривают девушек. Нет, такого прежде не было: мы по-хорошему стыдились в эти годы своих чувств. Чистой мерой все мерили. Ну, глядишь, так безрассудно и свихаются сыночки. И плывут себе по быстрому течению… И уж выплыть куда-нибудь не могут: недостает у них ни сил, ни опыта, ни воли, а главное, нет ясно осознанной охоты или желания.