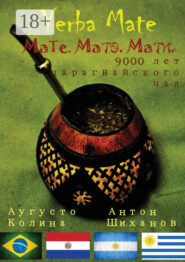По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Домик на Кирхен-Штрассе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Генрих…
Не в силах удержать себя, я подбежал к двери и припал к замочной скважине. Взрослые расхаживали по комнате из угла в угол.
– Я тогда чуть не умер от чахотки, в этом янтарной забое, чтобы ты имел свою врачебную практику. Евреи жирели. Я становился все тоньше. Брат, прости меня, я не знаю, прав ли фюрер, что кинул клич о том, что все евреи подлежат уничтожению. Не знаю. Но кое-какая часть определенно.
– Генрих, но ведь тот же Мориц Беккер начинал с нуля. Он развил дохлое янтарное производство, построил школу, больницу, по всему поселку стояли его трактиры. Инфраструктура, одним словом.
– Он построил, – скривился дядя, – на его деньги! Поправочка правильная будет, не так ли? Что же ему, не строить больниц, когда на его шахтах калечатся люди? Или ты думаешь, что калека много наработает? Впрочем, кому я объясняю, – махнул он рукой. – Герман, ты же врач! Я работал на его знаменитой шахте «Анна», которую Беккер назвал в честь своей жены. Я никогда не видел этой женщины, ходили слухи, что она даже была красива. Но шахта была ужасна. Работая в забое, ощущаешь, что ты находишься в преисподней, и чему же удивляться, что в ней рождаются такие вот маленькие черти, вроде меня? Спустя время они становятся дьяволами покрупнее.
– Брат, но ведь Мориц Беккер продал шахту государству еще в 1899 году, поэтому, причем здесь евреи?
– А, какая разница! Все равно я их ненавижу! Ему дали большие деньги, нечто вроде отступных, и теперь он где-то в центральной Германии. Я бы не дал ему и пфеннига! С тех пор я просто ненавижу голубую глину, в которой осели кусочки янтаря! Вместо того, чтоб, как все нормальные люди, любоваться окрестностями с горы Гальгенберг, я провел свою молодость в преисподней! Мне пятьдесят пять лет. А лучшие годы прошли в забое!
– Я помню, в местной газете писали, что признают его заслуги в развитии поселка.
– Время, время брат. После того, что было, так просто к жидам не подобраться. Они, захватившие все вокруг, от мелких лавчонок до больших предприятий, сразу не сдадут свои позиции. Это крысиное семя будет сражаться, но скорее убежит, так как мы будем уничтожать его стальной рукой.
– Генрих, успокойся. «Анну» закрыли еще в 1931 году.
– Закры-ы-ыли, – передразнил он отца, – а я рад. Рад, что закрыли. Думаешь, я не мечтал о том, чтобы добывать янтарь как белый человек? А не как негр с американской плантации? Как тебе кажется, спускаться под землю на глубину в восемнадцать метров… очень приятно? Ползать, согнувшись в три погибели в резиновой одежде и болотных сапогах по штрекам? С удавкой на шее?
– Какой еще удавкой? – Терпеливо спросил отец.
– Я иносказательно. На шею вешался мешок, куда следовало складывать особо крупные куски янтаря. Но не это главное. Тебе меня никогда не понять. Ты – белоручка. А я вот этими руками, – дядя растопыривал свои ладони, – грузил глину на вагонетки. Откачивал просачивающуюся в шахту воду, чтобы не быть погребенным под завалами. Вдыхал вот этими вот ноздрями, – дядя ткнул себя пальцем в нос, – гадкий запах сероводорода, который выделялся из отработанной породы. Я мог задохнуться там!
– Брат, брат, успокойся! – Отец похлопал дядю по плечу. Не слушая его, тот продолжал:
– Думаешь, мне не мечталось перебраться в Кракштепеллен, где янтарь добывали открытым способом? Мечтал! Но – не перебрался. А почему? Потому что в забое платили больше. Я завидовал белоручкам-ювелирам, кстати, в своем большинстве, евреям, которые в Кенигсберге и Данциге на мануфактурах превращали уже отсортированный и отмытый янтарь в украшения. А я даже не мог позволить себе покупку мелкой брошки для какой-нибудь веселой девушки. Боже, почему я не родился сто лет назад! Я был бы ныряльщиком! Вылавливал бы янтарь из моря. А они? Евреи – они установили драги, чтобы добывать камень! А драга – это механический дьявол, который рушит всю экосистему и уничтожает берега. Но им же всё равно?! К черту! Всё! Ненавижу. Ненавижу евреев! Я ведь помню… Помню из детства, как они жили, бедно, богато, неважно! Главное – неопрятно, вызывая лишь сплошное неудовольствие. Они вели быт навозных жуков. Зайдя в истинно арийский дом, мы могли увидеть лишь чистоту и порядок, пусть дом и был беден. И не мне тебе это рассказывать. Я уверен, вскоре будет создан какой-нибудь фильм, как наглядный пример, и мы все сможем посмотреть на скопление евреев в Европе. После просмотра, всех цивилизованных людей вывернет наружу.
– Но, это же пропаганда!
– Пропаганда? Нет! Это святая вера и открывшиеся глаза! Ты веришь статистике? Я знаю, что веришь. Ты же педант. Я немного отвлекусь от темы нашей беседы и напомню тебе, как в девятнадцатом году социал-демократы получили больше 45% голосов. А лишь спустя пять лет – всего 15%. Все увидели, что национал-социалисты лучше. Лучше прозреть поздно, чем не прозреть никогда. Сейчас брат, посмотри сам внимательнее по сторонам. Евреи приоделись, стараются ни в чем не отставать от порядочного немца!
– Может, они тоже часть будущей великой Германии?
– Нет, эти крысы даже готовы дать деньги на убой собственных братьев в Польше.
– Снова пропаганда?
– Брат, ты врач. Ты должен с этим смириться. Они рудименты. Я выучил тебя, сам чуть не подохнув у них на этих чертовых янтарных копях.
– Я тебе за это очень благодарен. Что же ты сейчас хочешь от меня?
– Я хочу, – дядя сделал паузу, – я хочу, чтобы ты понял меня. Понял то время, в котором мы живем, понял то, что их уничтожение неизбежно.
– Ты начинал добывать янтарь при Морице Беккере, еврее. Но потом работал уже при немцах. Почему ты их не смешиваешь с грязью?
– Уничтожение евреев неизбежно. – Дядя упрямо сжал челюсти.
– А если вы проиграете? Вас ждет трибунал?
– Мы не проиграем.
– Последний вопрос. Альберт Эйнштейн, он тоже нечистоплотная крыса?
– Эйнштейн?
– Да. И Йозеф.
– Герман, я не могу остановиться и уйти в сторонку. Военное время требует однозначных ответов. Только да, или нет. И никаких Альбертов Эйнштейнов и Йозефов.
10
Я прекрасно знал эту семейную историю о том, что мой отец происходил из бедной семьи. Мой дед умер тогда, когда дети еще не могли оставаться без его помощи. Умер, не оставив ни богатого наследства, ни перспектив на будущую жизнь. Мать – прачка, добывала денег слишком мало, и вскоре главным добытчиком в семье стал именно дядя Генрих, который работал как проклятый в соседнем Пальмникене, в шахте, где добывал янтарь. Работа была каторжная, но у него была одна цель. Нет, ему вовсе не хотелось самому выбиться в люди. Ему хотелось помочь сделать это его маленькому тщедушному братику, которому хватило бы и одного дня, чтобы он больше никогда не вышел из шахты, а остался лежать в ней навсегда. Деньги откладывались кропотливо и тщательно, и через некоторое время, после того, как отец закончил школу, он отправился учиться в университет на врача, потом участвовал в мировой войне, оперируя в лазарете, что, несомненно, спасло его хрупкую жизнь. Старший брат позже при помощи своего младшего поступил в университет в Кенигсберге, потом работал там же, имея свою юридическую практику. Позже вступил в СС – элитную военно-политическую структуру.
Дядя не скрывал своих действий, и единственным, кто не знал, что дядя где-то служит, возможно, был я. В основном, он жил в Кенигсберге, а в нашем городе появлялся наездами и, почему-то, чаще в штатской одежде. Он рассказывал, что вступил в ряды СС в 1935 году, 20 апреля, в день рождения фюрера.
– Нас были тысячи. Мы получили удостоверение личности и дали присягу в полночь, когда мрак прорезали огни тысяч горящих факелов. Я клялся Адольфу Гитлеру, фюреру и канцлеру Германского рейха, быть верным и мужественным. Клялся ему и назначенным начальникам беспрекословно повиноваться вплоть до моей смерти.
Все это для меня выяснилось во время поездки в Нойкурен, в местный курхаус. Он стоял на красивом обрывистом берегу, под которым плескалось непослушное море.
Это было фешенебельное заведение: роскошные номера, приличный ресторан. Игровые залы, бильярд, библиотека. И, конечно же, аквариум, насчитывавший тридцать четыре бассейна, в которых плавали многочисленные обитатели Балтийского моря. Его считали уникальным, ведь ничего подобного не было на всем побережье. Я, конечно же, был счастлив.
Нельзя сказать, что дядя был черствым человеком. Он был вполне добр ко мне, но, год за годом становился все жестче и непримиримее ко всему, что касалось общественной жизни и взгляда на неё. Животное спит в каждом человеке, но в одном это может быть добродушная панда, а в другом – безжалостный и трусливо прячущийся за чужие доктрины шакал. Мне казалось, что в дяде живет именно он.
Я знал, что, несмотря на то, что дядя вешал всех собак на Морица Беккера, тот был виновником его тяжелой юности лишь отчасти, поскольку к началу двадцатого века он продал все свои активы государству, включая шахту «Анна» и «Шлосс-отель». Тем не менее, еврей Беккер был удачной фигурой для нападок моего дяди, на которого выливались ежедневные словесные помои.
Дядя странным образом любил проводить со мной время – ему нравилось показывать мне мрачное и ужасное. Он таскал меня с собой повсюду, хотелось мне этого, или нет. Через неделю после объяснения дяди с отцом в кабинете, мне была уготована поездка в Пальмникен.
Этот небольшой поселок протянулся вдоль морского побережья узкой лентой. У него были широченные песочные пляжи, берег был относительно невысоким. Вдоль него тянулись ряды аккуратных кирпичных домиков, многие из которых были построены по единому проекту – покрытые, конечно же, черепичной крышей, дома имели как бы три фасада. В одном из таких домов, дядя снимал комнату, когда работал в шахте. Позже эту улицу, застроенную в едином стиле, назовут «Скандинавским кварталом».
– Красиво, Людвиг? – спросил меня дядя, указывая на дома, и на спуск, ведущий к морю.
– Красиво, – не видя подвоха, ответил я.
– А мне некогда было любоваться всем этим! Потому что я работал в шахте! Пошли! – И он потащил меня по песчаной дороге вниз. Туда, где на побережье раскинулось жерло «Анны».
11
Как раз в год моего рождения, в 1931 году, пастор Штоф построил в окрестностях нашего дома небольшую кирху. Она была миниатюрна, но мне, все же, нравилось в ней бывать, сидеть на простых деревянных скамьях, где-нибудь в углу, и представлять, как воображаемый органист, меняя регистры, извлекает всевозможные звуки, то громоподобные, а то нежные, словно свирель молодого пастуха. Больше всего я любил Иоганна Себастьяна Баха – его мелодии, особенно те, которые сейчас всюду признаны каноническими для игры на органе, будоражили меня своей силой и мощью. Мне казалось, что я повергаюсь оземь при первых же звуках, когда на органе, выдвинув нужные регистры, наш музыкант начинал играть, нажимая педали на полу, и на клавиатуре. Да, я чувствовал эту музыку! Порой я не знал ее названия, но арии Баха, его Аве Мария – погружали меня в состояние, близкое к медитации.
Однако, это были лишь фантазии, поскольку в кирхах нашего города никогда не было органа. Эта же капелла, носившая название «Девы Марии – звезды моря», была одним из самых беднейших приходов. Здесь даже не было денег на фисгармонию. Более того, даже священник приезжал сюда из Кенигсберга лишь летом, на время курортного сезона. Единственным музыкальным сопровождением был хор певчих. В парке, что располагался вокруг капеллы, росло более десяти видов сосен, названий которых я не знал. Много позже, уже когда Замланд станет русским, в окрестностях парка будут посажены чуждые ели. Поговаривали, что партийным деятелям коммунизма они напоминали о деревьях у кремлевской стены… Советские бонзы будут ценить этот уголок за тишину, а всех нарушителей их покоя, по рассказам, увозили в неизвестном направлении.
Откуда мне было тогда знать, что это уникальное место? Что оно стоит на пересечении климатических поясов? С одной стороны влияло море, с другой – лес. Что умиротворенность и тишина связана с идеальной звуковой частотой на этом участке – что-то около 2000 Гц…
– А, Людвиг, опять мечтаешь? – Дядя присел рядом со мной на скамейку. – Я стал замечать, что ты, парень, витаешь в облаках. О чем думаешь?
– О Бахе.