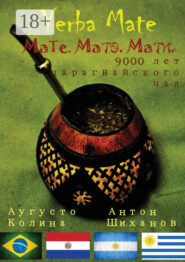По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Домик на Кирхен-Штрассе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После школы у меня было отличное настроение – я опять натрескался мороженого, купленного в привокзальном киоске Доротеи Лемке. Мать спросила меня:
– Какие новости и школы, Людвиг?
– Нам первое сочинение задали! – Улыбнулся я.
– Какая тема? – спросила мама, хотя, как мне кажется, она доподлинно знала, что иных тем, кроме тех, которые посвящены нашей великой стране, быть не может. Например, мой старший брат регулярно писал сочинения на следующие темы: «Разговор между СА-солдатом и кандидатом в СА», «Воспитание в гитлерюгенде», «Какие возможности предлагаются мне, как ученику для участия в строительстве под руководством фюрера». Нас учили всему, что должно было пригодиться в жизни. Например, ненависти к евреям. Так, в школах уже было разделение на арийцев и не арийцев, которые для преподавателей, по умолчанию всегда были «глупее» чистокровных немцев. Евреев даже запрещали оценивать выше арийцев.
Мы должны были любить родину, быть сильными и жесткими, свято верить фюреру, следовать идеям национал-социализма. Нашей религией был антисемитизм.
Я, как и другие мои сверстники, немного завидовали ребятам, жившим в городах, где имелись тингплатцы. Да, пожалуй, что не многие сейчас помнят, что это такое! Обычно в парке, немного на возвышенности, находилась небольшая круглая площадь – тингплатц, созданный по образу и подобию античных амфитеатров для собраний арийского этнического движения «Кровь и почва». Сейчас этих людей, пожалуй, с натяжкой можно было бы назвать реконструкторами – их полные скрытого мистицизма собрания будоражили наши маленькие души. Но… у нас такой площадки не было. Все, что мы могли себе позволить – это вести войну с волнами, которые полностью вытесняли собой мысли о чем-то постороннем…
8
Вчера было шумно, люди говорили, что в Кенигсберге на острове Ломзе подожгли синагогу, и были крупные побоища евреев. Я не верил, у нас было тихо, и домик на Кирхен-Штрассе утопал в мире и спокойствии. Для меня бы все так и оставалось, если бы день спустя я не подслушал исповедь. Наш священник, по своему обычаю, прежде чем ответить на какой-либо вопрос, повторял его вслух.
В кирхе было темно и пусто. Я оглядывался по сторонам, на меня смотрели святые, которых было не так уж и много, развешанных в красивых окладах икон по стенам. У алтаря, ближе к небу, синел мозаичный крест, а вокруг него большими и маленькими кучками летали ангелы.
Пастора не было видно, зато отчетливо слышался его голос. Старческий, немного дребезжащий и подрагивающий на высоких нотах.
Исповедующийся что-то спросил. Святой отец повторил вопрос:
– Грех ли то, что вы убили человека? Безусловно, это грех. И я не могу вам его отпустить. Он слишком тяжел.
Послышался взволнованный голос человека, чьи интонации показались мне очень знакомыми:
– Но, святой отец, это был еврей!
– Господь Бог не делит людей на национальности. У него все равны.
– Святой отец! – В голосе послышались угрожающие нотки.
– Я не могу отпустить вам этот грех. – Упрямо повторил пастор.
– Подумайте, святой отец. Я состою в НСДАП.
– Очень многие состоят в вашей партии, но не убивают людей.
– Святой отец. – Голос в исповедальне настаивал.
Мне было слышно, как священник тихо произносит молитвы. Он колебался. Послышался глухой звук падающего предмета; верно, это выпали четки из рук пастора, после чего он взволнованно произнес:
– Тем более вы зря ко мне пришли. Вам наверняка известно, что в партии не очень-то чествуют церковь. Ваш идеолог, Альфред Розенберг, вообще отрицает христианство. Неужели вы не читали его «Мифы XX века»? А если читали и полностью поддерживаете, то зачем вы здесь?
– Отпустите мне грех. – Механически повторил голос из исповедальни.
– Отпустив вам грех, я приму его на свою душу.
– Пусть будет так. Так или иначе, вы служите Господу. Помните ли вы о том, что он пострадал за всех нас, взяв на себя людские грехи? Так чего же проще? Возьмите мой. Я служу фюреру. Я знаю, что поступал правильно. Если нужно, я бы убил тысячи евреев. Но во мне живут пережитки прошлого, поэтому отпустите мне грех, иначе не через год, так через два я до вас доберусь. Завтра я уеду из нашего маленького городка в Кенигсберг, потом – в Мариенбург, или какой-нибудь другой крупный город. И, помяните мое слово, святой отец, ваша жизнь, в память о сегодняшнем дне, будет омрачена навсегда. Я уеду, но руки мои станут только длиннее, подумайте над этим.
Стало слышно, как шелестит одеяние священника. По всей вероятности, он крестился. После небольшой паузы он произнес:
– Я отпускаю вам этот грех, сын мой. Идите с миром.
– Благодарю вас, святой отец. Теперь, после каждого непотребства, с точки зрения моральных устоев церкви, я буду приходить к вам. Разумеется, до тех пор, пока я окончательно не пойму, что мои действия исключительно правильны!
– Позвольте… Не уходите. Запомните слова вашего фюрера… «Нам не нужны люди, которые таращатся в небеса… Нам нужны свободные люди, которые осознают и ощущают Бога в себе». Поэтому, пожалуйста, забудьте дорогу в этот храм. Прошу вас.
Скрипнула дверь, человек из исповедальни вышел. Спрятавшись за скульптуру святой Девы Марии, я с ужасом увидел, что это был мой дядя. Тихо следом я вышел за ним. Он был в форме, никогда прежде я не видел ее на нем. Она ему шла, придавала воинственности. Поначалу я возгордился, что у меня такой дядя. Но потом вспомнил, что он убил человека, и это был еврей. Следом я представил, что это мог быть мой двоюродный дядя, тоже еврей, и мне стало страшно.
9
Где-то на севере, закипая, садилось солнце, уставшее от этих безмерно долгих суток. Асфальт уже не плавился, а тихо остывал, а пушистые облака, понукаемые ветром, постепенно накрывали собой небосвод. Я уже знал, что дядя служит в СС, и его знак – это две молнии. Я даже раздобыл перечень всех званий Шутцштаффель (СС), которые сопоставлялись с обычными армейскими, и это давало мне понятие о значимости того или иного чина. Их было множество: унтерштурмфюрер, оберштурмфюрер, гауптштурмфюрер и так далее; исключил я в своей программе только звания рядовых, они мне были ни к чему. Что дядя офицер, я не сомневался. Вскоре я выяснил, что у него было сравнительно короткое звание – штурмбанфюрер, оно соответствовало званию майора. Всё это придавало мне некоторой гордости, ведь его все уважали! Однако, жестокость человека, долгое время остававшегося в моих глазах достаточно лояльным ко всем проблемам, позже ужаснула меня.
В кабинете отца они вели свой диалог, и их разговор был слышан на всем этаже.
– Да, я ненавижу евреев! Ненавижу! А за что я должен любить этих мерзких тварей? Брат, может быть, ты так свыкся с их постоянным соседством, что уже не видишь разницы между тобой, культурным человеком, и ими? Этими… нет, у меня не поворачивается язык назвать их людьми! Свиньи… свиньи и то чистоплотнее их. Это неизвестные науке животные, гады, имя которым жиды!
– Генрих, перестань, – вздохнул отец. – А как же Йозеф?
– Что, Йозеф?
– Муж Мари, сестры моей жены.
– Йозеф… Йозеф… у меня нет объяснений по этому поводу. Это нонсенс. К тому же, возможно, он не чистокровный еврей.
– Не ты ли мне говорил, что человек, который несет в себе хоть частичку еврейской крови, уже не имеет права называться человеком?
– Да, он всего лишь жид.
– И Йозеф?
– Йозеф… что ты ко мне пристал с этим Йозефом…
– Скажи мне, Генрих, благодаря кому ты получил несколько лет назад свою юридическую практику в Кенигсберге? Разве не Йозеф стал для тебя проводником в большую жизнь?
Разговор ненадолго смолк. Потом дядя продолжил:
– Что мне делать? В хрустальную ночь я собственноручно убил двух евреев, да еще как убил! Я связал их колючей проволокой (хотел бы я знать, как и откуда она подвернулась мне под руку!), облил бензином и сжег. Мои ноздри раздувались, как у хищника, мне нравился запах горящих волос и мяса, мне нравились душераздирающие крики, меня подбадривали мои товарищи. Я был пьян, но даже под утро не почувствовал особенных угрызений совести. Лишь через пару дней я пошел в нашу кирху, чтобы исповедоваться у святого отца… на исповеди я сказал, что убил одного еврея, про второго умолчал, а это был человек, годящийся нам с тобой в отцы… в кирхе священник не хотел отпускать мне этот грех, я же надавил на его, сказав, что если он не захочет этого сделать, его ждут большие неприятности… Я ужасен?
Отец деланно рассмеялся:
– Ужасен? Что с того, если я скажу, что это так? Или подтвержу, что ты был прекрасен в своем патриотическом порыве? Когда ты меня слушал? Я для тебя всегда – глупый маленький мальчишка. Но если тебе интересно, то да, мне противно всё то, что ты сейчас мне рассказал. Мне стыдно. Я не верю что мой брат – это тот человек, который был мне вместо отца. Нянчился и гулял со мной, кормил меня с ложки, и отдал всего себя, чтобы я получил образование.
– Да, а ты помнишь, как я добывал тебе деньги на учебу?
– Работал.
– На карьере в Пальмникене, в забое, как червь, у этого еврея, Морица Беккера. – Стал постепенно повышать голос дядя. – И ты учился, учился, чтобы быть милосердным врачом, давал клятву Гиппократа, и теперь лечишь всех, и даже тех, кто истязал твоего брата. Ты велик, брат. – Они вышли в коридор, где дядя гротескно поклонился моему отцу. Увидев, как я стою, раскрыв рот, они снова скрылись в кабинете. Хлопнула дверь.